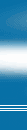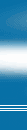Трудно признать, что твое лето уже кончилось, а ты, еще в июне отмотав свой двухнедельный отпуск, полагающийся у нас пролетариям, задыхаясь в московской жаре, тщетно смотришь за край горизонта и мучаешься, как от неразделенной любви. Однако, работая на трех постах на подменах ушедших в отпуск старушек, я правдами и неправдами наскреб себе к середине сентября еще недельку с небольшим.
“Человек есть его свобода”, - сказал Сартр, и я мчусь в электричке в Каширу навстречу этой свободе, листая атлас дорог, “стопник”, как самую интересную книгу, рассчитывая просто жить - трезвея от нашего чумного пира.
Я совершенно спокоен. Для таких, как я, трасса - самое спокойное место. А город, скверно напоминая казарму, не может удержаться от окриков и соблазна испортить фейс. Мое настроение растет пропорционально разделяющему нас расстоянию.
 В Кашире выходим на трассу. В Кашире выходим на трассу.
Застопленный после недолгих ожиданий драйвер спрашивает, куда едем?
- Пока в Воронеж, - отвечаю я.
- Москва - Воронеж, фиг догонишь! - смеется он.
Наша первая с Ритой остановка и правда была в Воронеже, пятьсот от Москвы: очень хорошо для стопа. Могли бы и больше, но у нас здесь было, где найтать, а это немаловажное обстоятельство. Итак мы еще засветло отыскали двоюродную ритину бабушку. Нормальная еда, нормальная постель, обычные городские разговоры под чай: редкие удовольствия в того рода экспедициях, в которые мы отправляемся.
Я знал, что бабушка - оголтелая коммунистка, и готовился сдерживать себя, чтобы не проявить неучтивость, ввязавшись в обидный для хозяев спор. Но все обошлось. Оказывается, всегда можно найти приемлемые для всех темы, прощая нам, как родственникам, наше индивидуальное безумие, не впадая, как иногда бывает, в панику: ах, что скажут соседи, случайно увидав в замочную скважину мои заплатки на заднице.
Утром ритин двоюродный дядя Алик ведет нас на остановку автобуса, который вывезет нас на окраину. Алик - неплохой человек, но жизнь его тосклива. Он ехал на работу, мы ехали на трассу. Мы снова свежи, и нам нипочем любое количество километров.
В первом грузовике под Воронежем - образок Николая Чудотворца на лобовом стекле среди наклеек с бабами и марксистских значков.
А за окном серебряный Лукич, обращенный к шоссе спиной, поднятой рукой указывал прямо в окно стоящего перед ним серого кирпичного школьного куба.
И далее всю дорогу разрушенные соборы. Не перестроенные, не снесенные вовсе, а именно как бы оскверненные.
Под Воронежем вдоль дороги очень много яблок, картошки и грибов. Какие-то зеленые и желтые помидоры. Тыквы с футбольный мяч.
Отсюда казалось, что в деревнях проживают исключительно старухи. Скрюченные, обвязанные платочками, стоят они между ведер картошки, привалившись на кривые клюки.
Водители делятся на тех, кто везет молча (меньшинство), признавая твое право выглядеть как хочешь, и тех, кто задает вопросы: кто, что, зачем волосы? Для таких надо придумывать обтекаемые и доступные ответы. Конечно, это достает. Хотелось бы раз и навсегда всем сказать: хиппи for stupids - симпатичные молодые люди, бродяги и миролюбцы. А волосы затем, чтобы у Анны Карениной не было шанса увидеть уши.
Пицунда началась для меня с надписи на стене электрички Сочи-Гагра: Love for Peace. Moscow people. Piziunda. И рядом большой пацифик, как положено.
До этого на темной сочинской платформе к нам прикололся вор (как он нам представился), с трудовыми руками и страдающей душой. Звали его Володя. Он сразу украл для нас пачку сигарет в подарок - “Стюардессу”, дамских, на его взгляд. Он был слегка пьян и все просил обратить его в нашу веру, чтобы он бросил воровать и пить. Рита посоветовала ему читать Неустанную молитву. Он сказал: не поможет, потому что не верит.
 - Это не имеет значения, - обнадежил я. - Это не имеет значения, - обнадежил я.
На фланирующую по вокзалу публику из него пер страшный агрессив. Для них у Вовы было два наименования: козлы и проститутки. Выкрикивал он это довольно громко, нарываясь на фейсовку.
- Если вы мне не поможете, - кричит он, - пойду кого-нибудь бить!
Отправился провожать нас на электричку. По дороге ему в голову пришла светлая идея: поехать с нами.
- Мне все можно! - храбрится Вова. - Я могу делать все, что захочу!
И все порывался нам чем-нибудь помочь. Кончил тем, что не поехал, и у дверей электрички его свинтили менты. Заодно проверили и мой докyмент.
Вскоре он вернулся - и заговорщически сообщил, что помогла одна записка. И вдруг он совсем раскис и стал настойчиво просить меня послать его сестре в Донецкую область телеграмму, что его больше нет. Это надлежит сделать в том случае, если мы с ним больше не встретимся (в чем он не сомневается, так как пойдет сегодня на большое и экстренное дело). Он упрашивал меня об этом до самого отправления поезда.
- Больше я тебя ни о чем не прошу!
Может быть, я не прав, что этого не сделал.
Став предметом обсуждения в электричке, этот симпатичный вор помог нам познакомиться с художником Сашей из Тюмени, поджарым бородачом сорока лет, диссидентщиком и халтурщиком, едущим, как и мы, оттягиваться в Третье ущелье (вот куда проникла слава о нем!). У себя в Тюмени он изготовляет ленинов и прочую лозунговую дурату.
- А что делать? Мне уже сорок один, надо приобретать положение, иначе поздно будет. Приходится идти на компромиссы, от которых другим никакого вреда - ведь в это никто не верит!
- А кто будет сеять разумное, доброе, вечное? - спросила Рита.
- Пускай телевизор сеет, - усмехнулся он.
За огромный монументальный орден, что сварганила его шарашконтора, ему дали квартиру, которую он не имел ни единого шанса получить. Заказ же на орден достался им лишь за то, что при проверке у его шарашки оказалось меньше приписок, чем у других.
Он много говорил о художниках, погибших, как Минас Аведосян, похожий на раннего Сарьяна, и процветающих проститутках, как Глазунов. В своей Тюмени он имел достаточно информации: об Эрнсте Неизвестном, встрече Дали и Хачатуряна, о разрушении сорока статуй в Летнем саду кавказскими художниками, не зачисленными за национальность в Академию Художеств...
В Гагры приехали в одиннадцать вечера по-местному. Автобус до Пицунды уже не ходил. Шура повел нас в некое место на берегу, где мы могли бы без стрема перенайтать. По дороге вытащили из песка застрявшие “жигули” с развлекающимися молодыми людьми.
Место оказалось зарослью тростника в три-четыре метра высотой. Здесь мы распрощались с Шурой, и он нырнул в проделанный в тростнике лаз. Мы полезли следом и стали на ощупь двигаться по петляющим тропинкам, словно вглубь лабиринта. На вытоптанном, с грудой поломанного тростника пятачке, где в другое время, наверное, ночевали контрабандисты или занимались любовью, мы бросили палатку и решили спать. Тростник трещал под ветром, по нему бегали какие-то животные. Потом нам стало казаться, что сюда ползут люди, те самые контрабандисты, мы напрягали слух, но в шуме тростника ничего не могли разобрать. Рита вздрагивала и хватала меня за руку.
- Мне здесь не нравится. Пойдем отсюда! - панически вскрикивала она.
Меня не трудно было уговорить. Здесь и вправду ночевать было как-то стремно.
Мы решили перебраться поближе к жилью. Когда мы шли по прибрежной улице, застроенной частными домами, более напоминающими виллы, нас затормозил подвыпивший абхазец, запиравший свои ворота. Сперва он предложил нам спать в своей машине, но мы предпочли в саду. Поэтому он отвел нас на огромную, 8 на 4, увитую виноградом веранду, а для Риты еще принес раскладушку.
 Утром, отлично выспавшись и попив с нашим хозяином чая, мы скипнули в Пицунду. За два билета до “Рыбзавода” с нас отчего-то взяли рубль. Утром, отлично выспавшись и попив с нашим хозяином чая, мы скипнули в Пицунду. За два билета до “Рыбзавода” с нас отчего-то взяли рубль.
Знакомая дорога по камням вдоль моря - словно белые камешки из сказок, возвращающие к дому. Солнце, спокойная плещущая вода, жара. Можно ли было вообразить в мутной, уже клонящейся к осени Москве чего-нибудь подобное! Я словно попал в детство, лет на двадцать назад, когда я так любил все эти южные сиропы. Я нагнал-таки убежавшее от меня лето, и меня охватил азарт, я по-мальчишески прыгаю по камням - и разбиваю банку с баклажанной икрой.
 Во Втором-с-половиной ущелье мы встретили первых волосатых: мэн и загорающая нагишом герла. Приветствовали друг друга и обменялись информацией... Самое приятное, что есть в волосатых - это стабильное узнавание и приветствование друг друга - хоть на улице, хоть на Луне, причем узнавание подразумевает не личное знакомство, но - “братство по разуму”, и по причинам такого родства означающее заочное знакомство всех малых и больших обитателей Системы. Во Втором-с-половиной ущелье мы встретили первых волосатых: мэн и загорающая нагишом герла. Приветствовали друг друга и обменялись информацией... Самое приятное, что есть в волосатых - это стабильное узнавание и приветствование друг друга - хоть на улице, хоть на Луне, причем узнавание подразумевает не личное знакомство, но - “братство по разуму”, и по причинам такого родства означающее заочное знакомство всех малых и больших обитателей Системы.
От этих двоих узнали, что наш друг Леня уже здесь.
С Леней я познакомился этим летом на концерте Сантаны: он, имеющий какой-то липовый пропуск, старался провести нас с Гуру и еще каким-то пиплом через милицейский кордон, что в конце концов, благодаря и моему упорству, ему удалось. Я так и не успел его тогда поблагодарить - мы опрометью ломанулись к сцене - а там наяривал вечный “Автограф”. После мы случайно встретились у метро Сокол, где он жил, а я работал, и он сразу затащил к себе в гости. Дружба произошла у нас бурная, словно влюбленность. Тогда-то я ему и сказал, что собираюсь в сентябре в Пицунду. Он попросился со мной.
В третье ущелье мы попали как-то неожиданно быстро, пройдя через гору, отделяющую второе ущелье от третьего, по пещере, никогда не обещавшей безопасного путешествия в кромешной темноте, и поэтому не всеми избираемой.
Ущелье было забито туристской публикой. Играющие дети, сохнущие трусы, грибы на веревочках, сколоченные из палок столы и стулья, палатки, целлофановые навесы и тенты. В общем, целое хозяйство, мало отличающееся от какой-нибудь подмосковного дачного поселка.
Здесь Лени не было.
Бросили рюкзак у приветливого хозяина одной из таких “дач” и пошли в четвертое искать Леню. Перед четвертым ущельем табличка, которой в прошлом году не было: “Проход запрещен”. Безразлично манкируем ею.
Искать Леню оказалось делом недолгим: к нам навстречу уже шел голый человек в огромных туристских ботинках с развевающимся хаером и что-то радостно кричал или пел. Он делал это свободно, как хозяин территории, встречающий дорогих гостей, может быть, даже вручающий им ключи от города.
За эти дни он успел здесь прочно обосноваться и загорел. С риском для жизни он облазил все эти “запретные” горы в поисках жилья для себя и нас, настолько надежного, чтобы не нашли ни менты, ни пограничники. Я побывал у него “дома”: он жил на самом верху в полупещерке, напоминающей гнездо орла. Вокруг обрывы, сплетения веток и корней - было, где тренировать вестибулярный аппарат.
- Хочешь взглянуть на моего соседа? - спрашивает Леня.
Я недоуменно киваю. “Соседом” оказался мертвый козел, лежащий в такой же, как у Лени, пещерке.
Леня жил без палатки: просто кинут спальник, на спальнике томик Кендзабуро Оэ и коробка с красками. Спустились вниз: жить в соседстве с козлом отказались. Потом купались нагишом в парной воде. Офигительный кайф.
Лазать по горам, как Леня, у нас не было ни обуви, ни терпения. Поэтому, отвергнув столь бескорыстно предложенные ключи, палатку мы поставили в третьем, недалеко от “домика” балерины, за каким-то бетонным надолбом (тут их много валяется, говорят, здесь когда-то хотели вести дорогу).
Вечером пришел художник Саша с вайном и виноградом. Опять побазарили с ним за жизнь. Потом к нам присоединились московский Макс и Леня.
Ночью полезли к волосатым, живущим в третьем на горе. Они сидели у костра и поджаривали незакипающий чайник. Теряли время с толком: беспрерывно стебались и угорали. Тут же перла китайская философия, японский язык и прочие смешные вещи. При этом все произносилось с местным абхазским акцентом, что было приколом этого года. Так до поздней ночи мы пили чай и забавлялись, и я в хорошем настроении вернулся к палатке.
Здесь нас нашел Кисла, наш московский приятель, мы опять развели костер и продолжили обычный пицундский треп. Мы рассказали про стоп, про Вову и Сашу. Потом говорили в основном о Паркере, Штокхаузене, Velvet Underground и Grateful Dead (героиновый рок и рок кислотный - Кисла был спец по этим делам). В это время сверху орали какие-то перепившиеся люди. Весьма странно, что никто из них не упал нам на голову.
Утром Леня пришел к нашей палатке с целой кастрюлей только что сваренной гречневой каши. Собираясь заправить ее маргарином, мы обнаружили в нем мертвого скорпиона. Бедняга залез к нам в палатку, но нас не тронул.
Недалеко от нас перекусывали грузинские строители, что сооружают здесь забор, должный отделить третье ущелье от четвертого, включенного в мертвую зону правительственных санаториев, примыкающих к бывшей Сталинской даче. Кайф кончается, все только об этом и говорят, и, может быть, кончается целая эпоха свободы. Но мы еще здесь, не накрытые тенью забора.
 - Главное, не построить забор внутри, - утешают себя волосатые. - Главное, не построить забор внутри, - утешают себя волосатые.
Искупались и пошли к Федору Щелковскому, старому московскому френду. Он жил с приятелем на горе под целлофановым пологом.
- Добро пожаловать в нашу квартиру, - приглашает нас Федор.
В середине “квартиры” самодельный столик, на нем пустая сковородка: хозяева недавно кончили трапезовать.
- Попросил у туристов пару картошек, - рассказывает Федор. - Сварил, а масла нету. Ну, поплевал на сковородку и размазал картошкой: жиров-то хочется!
Следом рассказал про хипповку с грудным ребенком, которая побирается тут по туристам. Заходит она и к Федору, просит: не осталось ли у вас что-нибудь для ребеночка? Раз зашла, два...
- Ну, я не выдержал. Говорю ей мягко: что-то больно много жрет твой ребеночек! - Он произнес это со зверской интонацией.
Я вспомнил про упившихся прошлой ночью, оравших над нашей головой. Федор кивает с гордостью:
- Это я орал!
Оказывается, кто-то притащил вечером из Пицунды канистру чачи, и пол-ущелья веселилось.
Все ущелье жрет грибы. Кроме мидий - это единственная здесь белковая пища.
Не откладывая в долгий ящик, мы втроем тоже отправились за грибами. Проходим сотню метров вверх по ущелью, густо заросшему кустами и заваленному упавшими деревьями. И тут находим первые опята, весьма относительно напоминающие подмосковные. С сомнением смотрим на них, но все же срезаем и идем дальше. И в изумлении останавливаемся. Перед нами море грибов - здоровые лопухи устилают все склоны балки, плотно облепляют перекинутые через нее стволы. Забили ими все имеющиеся емкости и немного разочаровано идем назад. Часть грибов кинули в кастрюлю, остальные вывалили сушиться на расстеленный целлофан, служащий для накрытия палатки в дождь. Теперь каждый день у нас был грибной стол. К концу проживания от них уже тошнит. Недоеденные сухие грибы едут с нами в Москву.
 Из прошлогодних хиппарей здесь только Макс. Но что один хиппи, что другой - это продукт постоянный и качественный, как мясорубка. Из прошлогодних хиппарей здесь только Макс. Но что один хиппи, что другой - это продукт постоянный и качественный, как мясорубка.
Рассказывать о волосатых приколах бесполезно. Пока еще можно - их нужно послушать живьем. Нужно только самому быть в том же автобусе, чтобы тебя признали и не стеснялись. Тогда хиппари могут во всем объеме продемонстрировать свое обаяние и легко спродуцируют, например, такую сцену:
Недалеко от нашего стойбища появился фонарь.
- Леха, это ты? - закричал один.
“Леха” не ответил.
- Это не Леха, - последовал чей-то разачарованный комментарий.
- Саня, ты?.. Серега, Вовка, Пашка, Генка... - и пошло-поехало перечисление имен, под смех и угорание, к полному смущению неизвестного обладателя фонаря.
Здешние мои друзья склонны оценивать все явления нашей жизни двумя абсолютно емкими характеристиками: “атас” и “говно”. “Атас” - это фильмы Вайды, музыка “Led Zeppelin” и F. Zapp’ы, стихи Бродского и романы Аксенова, картины Лентулова и Филонова. “Говно” - это весь совок и все, что в нем располагается.
Не изящно, но точно.
Я говорю:
- Те, кто запрещают, тем самым свидетельствуют, что их истины не очевидны и самой жизнью не доказываются, и столь уязвимы для чужих точек зрения, что нуждаются в насильственных средствах, чтобы хоть как-то влиять на мозги.
- Хотите анекдот, - говорит Крис. - Брежнев с трибуны: “Мы хотим мира, желательно всего”.
 Крис - занятный человек. Отслужил в Афганистане, потом явился в военкомат и, по образцу вьетнамских ветеранов, швырнул там свои медали. Вьетнамки, шорты из обрезанных джинс, а на голове военная панама. Жалеет, что не сохранил ни одной медальки: это могло бы вызвать уважение у ментов. Повесил бы ее на майку. Крис - занятный человек. Отслужил в Афганистане, потом явился в военкомат и, по образцу вьетнамских ветеранов, швырнул там свои медали. Вьетнамки, шорты из обрезанных джинс, а на голове военная панама. Жалеет, что не сохранил ни одной медальки: это могло бы вызвать уважение у ментов. Повесил бы ее на майку.
Он хорошо пел, играл на гитаре, был легким и веселым. По виду не скажешь, что крутой торчок. Но здесь на берегу наркотиков не было.
Тут вообще многое менялось: ходить за всякой херней в город, два часа в один конец - не набегаешься. Хватило бы на хавку. И люди переставали пить, некоторые - курить, капризные дети начинали все есть.
Четвертое ущелье - заповедная зона: резвящиеся голые люди, голые совсем и голые наполовину, причем нижнюю. Тогда как наверху рубашки и рюкзак. На границе четвертого сидит бритый голый человек, загорелый до черноты, в одной и той же позе лотоса на руках. Сколько я ни проходил мимо него, я ни разу не видел его за другим занятием. Складывалось впечатление, что он не ест и не спит. Чуть дальше на берегу голая девушка, заплетающая и расплетающая свои великолепные длинные волосы. Ее я тоже не видел за каким-нибудь иным делом. Все отдыхают, как умеют.
Бывшие призывники поют пацифистские песни и вспоминают знаменитые выражения из лексикона старшего командного состава: “Тут вам не здесь! Что ты стоишь, как рыба об лед!”
Крис в армейской рубашке и панаме азартно наяривает на гитаре:
- Я-а зарыл свой автомат
Там, где ручьи шумят...
- Чай-май, туды-сюды, то-се, тыры-пыры, - слышится со всех сторон. Это язык, используемый волосатыми для содержательных бесед в Пицунде.
Федор Щелковский прогуливается мимо в какой-то брезентовой хламиде а-ля Волошин. У него, впрочем, для нее иное сравнение:
- Помните босого мэна в котоновом прикиде - на суриковской картине? Что, похож? - спрашивает он, и вертится перед нами, как перед зеркалом. Имелась в виду “Боярыня Морозова”.
Если в первые дни море было необычайно теплое, градусов, может, 25, то однажды утром мы нашли его коварно холодным. Чем-либо объяснить данную метаморфозу было трудно: погода стояла сухая и теплая. Теперь с утра мы долго ждали, пока вода не согреется на солнце на пару градусов, с избытком запасая тепло в теле, прежде чем найти в себе решимость на секунду в нее броситься. Настоящее купание происходило ближе к вечеру. Но утром пытка начиналась снова.
Световой день был короток. В восемь часов солнце пряталось за скалу, и на нас обрушивался зябкий сумрак и ветер. Доставались свитера, разводились костры из запасенных днем дров. И начинали стекаться знакомые.
Нас пригласили откушать с собой грузины-строители. Они собираются возводить здесь забор, потащат его под водой до самой Турции. Наверху горы они его уже построили.
Леня принял обет трезвости, Рита просто не хочет, поэтому отдуваться за всех приходится мне.
Одного из них, самого гостеприимного, зовут Русишвили. Он из Гори. Сочетает в себе ненависть к коммунистам, веру в Христа и любовь к Сталину.
Я заикнулся, что все же Сталин пересажал массу народа.
- Это был великий человек, всей Россией правил. Не нам с тобой судить. А ты знаешь, что он за один час мог целую книгу прочесть?
Беседа спасительно перешла на кухню.
- Кацо, ты что - псих? - обрывает гориец приятеля. - Кто так сациви готовит! Не знаешь - молчи!
Глядя на пицундских волосатых, которые, если так можно выразиться, жили в оптимальной для себя среде, отчего стали отчетливо напоминать бичей, я врубился, что волосатая культура не эстетическая и уж наверняка не литературная. Это культура болтовни, юмора и диалога. Это культура эмоций и музыкально-медитативных упражнений. Она слишком художественна, чтобы быть рассудочной и интеллектуальной. Поэтому и не будет написано великих хипповых романов, подобных тем, что создавали битники.
 Ну и фиг с ними. Зато колорит данных мест за себя постоит: прекрасные нагие гурии, чача, домашний коньяк грузин-строителей, ночные чаепития у костра, у которого полдюжины френдов спасаются от ночного колотуна. И менты!!! Ну и фиг с ними. Зато колорит данных мест за себя постоит: прекрасные нагие гурии, чача, домашний коньяк грузин-строителей, ночные чаепития у костра, у которого полдюжины френдов спасаются от ночного колотуна. И менты!!!
...Они появились неожиданно из-за камней со стороны третьего ущелья: два абхазских мента в белых рубашках с коротким рукавом. Первый приказ: надеть трусы. Второй: предъявить документы.
Удрученно сообщаю:
- С этим будут сложности. Мы здесь, а они там.
- Так пусть кто-нибудь сходит!
- Ладно, я пошел.
- Нет, пусть девушка сходит.
- А у меня тут, - говорит Леня и сложным путем отправляется к себе наверх. Жду, что он там и останется, от греха подальше, нас же с Ритой, как и в прошлом году, повезут в Пицунду.
Возвращается Рита с паспортами, возвращается и Леня. Она уже дала знать волосатым про стрем. Я в это время веду душеспасительную беседу с ментами. Они твердят известный назубок текст, что мы позорим родину, валяясь здесь голыми.
- А вы увидели голых только нас, а обычных туристов не видели? Вон там лежат и вон там.
- Когда мы подошли, они оделись, - говорит мент.
- Это наше самое страшное преступление?
- Здесь вас вообще не должно быть.
- Лично нас или всех, кто живет в ущелье?
- Ты видел там табличку: “Проход запрещен”?
- Знаете, мы тут не первый год отдыхаем и все время сюда ходили. Сложилась уже традиция.
- Какая традиция, нарушать закон?
- Да перестаньте, какой закон!
- Такой закон, что нельзя ходить, куда запрещено!
- Не надо ущелье закрывать! - Не хотел я это говорить, само вырвалось.
- Ты тут, что ли, главный? - спрашивает мент. - Ладно, поедешь с нами.
 - Куда? - Куда?
- В Гудауту.
Вот-те на! В Гудауте я еще не был.
- Чего ради? - интересуюсь я.
- Там узнаешь чего!
- Прямо в трусах?
- Ничего, штаны мы тебе привезем. Пошли.
- Да никуда я не пойду.
- Не пойдешь?
- Вы даже не объяснили причину.
- Ладно, мы тебя и отсюда заберем.
Все это уже было, было! Все это жалкий повтор! Меня уже забирали из пруда в Южном Порту московские спасатели (предварительно едва не утопив за отказ лезть в их лодку) и отвозили в отделение. И мент, глядя на меня, требовал:
- Ваши документы.
А я стоял мокрый, на голом полу, в одних плавках и не знал, смеяться или плакать. По коммутатору они в две секунды проверили данные, но не успокоились. Тогда меня отмазал народ, окруживший ментов, когда те привезли меня на катере за вещами:
- Как вам не стыдно, Фестиваль Молодежи, что вы делаете?! Он же ничего не сделал, ну, искупался! Посмотрите - все купаются... (В этом пруду купание почему-то было “запрещено”.)
Я даже не ожидал такой солидарности от нашего бессловесного обычно народа: пролетарские мужики, бабки с детьми, тетки самого презираемого мной типа. Менты поколебались, повертели паспорт и сели в лодку без меня.
Теперь мент отвел меня подальше от остальной компании, связался по рации с катером и попросил помощи.
- Вот что я тебе скажу. Таких, как ты, надо учить. У тебя будут большие неприятности. Это я тебе говорю.
- Какие же?
- Какие? Я сейчас отвезу тебя в Гудауту, там кину в камеру к уголовникам, они тебя вые...т - и тогда ты станешь по-другому разговаривать.
- Ну-ну. Это вы заявляете как представитель закона? Можно, я это всем сообщу?
- А что мне твои все?
- Ничего, ну, чтобы они знали, если со мной что случится.
- А что с тобой случится?
- Ну, там всякое в вашем отделении.
- Ничего с тобой не случится. - Видно, что он уже пожалел, что так сказал.
Появился катер. С него ответили, что подплыть к нам не могут - камни. Вижу, мент в затруднении. Я понял, что надо сделать шаг навстречу, дать ему шанс выйти из этой ситуации как бы победителем.
- Ну, и зачем вам это нужно? Мы что, секреты военные подсмотрели?
- Надо было нормально себя вести!
- Мы поучимся.
- Чем занимаетесь, работа есть?
- Мы художники, сюда в отпуск приехали.
Ментов я знаю вдоль и поперек. Что нужно менту: чтобы ты унизился, когда ты не виноват, попросил бы: дяденька, я больше не буду, и тогда он согласится разговаривать с тобой как с человеком, снизойдет до панибратства и, в общем, ничего тебе не сделает, хотя и мог бы, как он не преминет показать.
Дальше был общий треп, менты расслабились и в конце концов отпустили нас.
Абхазский мент не знал слова “индивидуалист”, но именно это он и хотел инкриминировать нам. Мы не такие, как все, мы не приемлем жизнь такой, как она есть, мы противопоставляем себя, мы индивидуалисты.
Почему индивидуализм - бранное слово для совдепа? Потому что индивидуалист смотрит на сам указующий перст, направляющий коллективный разум миллионов: а что, собственно, ты хочешь этим сказать? а почему ты решил, что сейчас я побегу это выполнять? Индивидуалист - это эгоист, не способный на жертвы ради общего. Поэтому он может беспристрастно смотреть на кумиры, как кошка на короля. Как сказал Бергсон: эгоизм - это проявление свободы и самосознания. Неэгоистическое общество - это муравейник. Индивидуалист сам находит для себя жизненный интерес, и это приводит в ярость совковых идеологов, видящих в нерадивом индивидуалисте препятствие в распространении их глупых побасенок.
Индивидуалист может ошибаться, но его ошибки куда меньше ошибок распоясавшейся массы. Индивидуалисты принадлежат к той породе, из которой формируются вожди, поэтому реальные вожди не переносят их, как своих конкурентов.
Федор был старше нас лет на семь и дольше играл в эти игры. С ним мы вели разговоры о Системе. Мы говорили про ощущение, витавшее в воздухе - что в Идее появилась гнильца. Многие волосатые хоронили Систему и уходили в смежные области, просто больше не являлись на утреннюю перекличку.
 Многих погубила военная кафедра (то есть они и тусовались года два, пока были студентами младших курсов), многих - немыслимое невыносимое неблагополучие. Кайф - это особая статья. К сожалению, именно в “свободе” мы нашли себя проще и сильнее всего, тогда как “любовь” оказалась несовместимой с обзаведением дипломами, детьми, постоянными рабочими местами. Многих погубила военная кафедра (то есть они и тусовались года два, пока были студентами младших курсов), многих - немыслимое невыносимое неблагополучие. Кайф - это особая статья. К сожалению, именно в “свободе” мы нашли себя проще и сильнее всего, тогда как “любовь” оказалась несовместимой с обзаведением дипломами, детьми, постоянными рабочими местами.
Свобода требует несвободы для своего обуздания. Бесформленная свобода ищет формы, где живая душа могла бы дышать, не жертвуя всеми идеалами. Что было бы по-прежнему не от мира сего, и при этом структурировано, организованно и крепко стояло на земле. Что-нибудь такое, чему мы, свободные люди, могли подчиниться - и уже не идти куда-то за тридевять земель искать “истину”, а держать ее крепко в руках, как морскую свинку. Или просто оправдывать свою асоциальность, что до этого делали самопально и хаотично.
Под чем-то я прозрачно намекал на храм. С одной стороны, он как бы вытекал из идейного развития, с другой - спасал от патологических уклонений: от тех же наркотиков, слишком вольной любви, кромешной необязательности и ожидания предательства от нещепетильных и расслабленных братьев.
Я сразу невзлюбил все это, словно измену. Православное доктринерство было мне особенно противно.
Всякая религиозная и социальная доктрина спасения подразумевает спасение и избавление именно для того общего и универсального, что есть у тебя с людьми - путем все большего освобождения от того индивидуального и особенного, что тебя от них отличает. Доктрина не знает спасения для всего тебя, да и не собирается это делать. Ты весь ей неинтересен. То, что не составляет “золота”, которое она и спасает, есть или мишура, или грех. Она претендует на знание исключительного метода спасения, неукоснительное следование которому поставит тебя на высшую ступень в Небесной или земной иерархии. И ее сытные (хоть и нематериальные) пайки должны, видимо, компенсировать жизнь с оглядкой и вечное самоумаление.
Федор говорил, что волосатым верить на слово нельзя. Он помнит все эти разговоры еще с конца 70-х, что Система дает дуба. Старость склонна чернить настоящее и приукрашивать прошлое. Для кого-то, кто принадлежал к Первой Системе и кто судил о делах в ней по своим друзьям, наверное, так оно и было...
Я наблюдал Систему с 79-го, “вступил” в нее в 81-ом и могу поручиться за ее изрядную тогдашнюю жизнеспособность, численность и добротность. Последние махры доживали свои дни среди тех, кто пришел в Систему в середине и в конце 70-х. В конце концов, проходило два года, и возникало новое поколение, а ты уже канал за олдового, молодняк с уважением повторял твою кликуху. Через два года вместе с опытом закрались подозрения в неблагополучии Системы в данный конкретный момент. Одни стали слишком нравственными, то бишь православными, другие постриглись, оставаясь хорошими приятелями под иными марками и масками, или куда-то исчезли, словно их и не было вовсе. Но в 85-ом на Фестивале Молодежи я вдруг узнал о существовании третьей генерации волосатых, возникшей неизвестно откуда и под чьим влиянием. Это были сплошь молодые ребята от 17 до 22, талантливые, веселые, честные - в общем, воплотившие в себе лучшие черты, необходимые для данной роли. Именно с ними и проходила теперь моя экстравертная часть жизни. Скоро постареет и эта самая молодая генерация, а о какой-нибудь новой мне пока неизвестно, да и не особенно хочется знать. Вряд ли я теперь хорошо пойму восемнадцатилетнего, то есть сумею разделить его восторги и упования. Даже если он прав по сути (что я легко допускаю: я знаю это побуждение к идеалу, заставляющее идти в Систему), то в частностях-то он уж наверняка будет неправ, малоубедителен и наивен. Есть идеи о жизни, есть легенды, и есть практика жизни. И практика всегда на два порядка ниже идей по своей духовной значимости и наполненности. И какой бы Дети Цветов ни заслужили благодарности и почтения за проделанную работу, все же именно дети и цветы вырастают и увядают наиболее быстро...
- Но, в конце концов, именно это и спасало до сих пор Систему от маразма, - возражает мне Федор.
 Ночное южное небо, звезд, как на американском флаге. Не хватает только тепла, чтобы созерцать роскошь неизвестных мне созвездий и бледную знаменитость - Млечный Путь, ровно по середине обозреваемого неба. Ночное южное небо, звезд, как на американском флаге. Не хватает только тепла, чтобы созерцать роскошь неизвестных мне созвездий и бледную знаменитость - Млечный Путь, ровно по середине обозреваемого неба.
Кончается сентябрь. Я уже исчерпал весь положенный лимит времени. Хиппари прощаются с нами. Они здесь просидят еще весь октябрь, а кто-то даже останется на ноябрь. Жить так не очень комфортно, но уровень свободы этих людей вызывает во мне глухие сожаления.
Утром мы втроем снимаемся в обратный путь. Довольно холодно. На берегу по щиколотку в воде стоит мужик в плавках и поет: “Эх, хорошо в стране советской жить!..”
По дороге в Пицунду знаменитые ленины туристские ботинки развалились прямо на нем. Леня кинул их со скалы в воду и остался босиком.
В Пицунде я впервые в жизни попробовал аскать, выбрав для этого местных абхазов, сидящих на веранде кафе: дайте сколько можете, у человека обувь развалилась, домой ехать не в чем. Хоть какие-нибудь тапочки купим. Они смотрели на меня, слушали и ничего не давали.
Делать нечего: я предложил Лене свои самодельные вьетнамки: кусок кожи с двумя тесемками, специально сделанные, чтобы ходить здесь по раскаленным камням. В них он и сел в поезд.
В поезде Сухуми-Москва нам досталось худшее место - у сортира. Отличный поезд: с неработающим тэном (что стало актуально ближе к Москве) и незакрывающейся дверью в дабл на одной петле.
- С дверью надо как с девушкой, - объяснил мне донецкий житель, наш сосед.
- Много чести. Просто надо кое-что чинить, прежде чем пускать вагон в эксплуатацию.
Неожиданное открытие: русские люди продолжают верить. Православие так и не истребилось в них, а живет даже через поколения. Их отцы и деды поменяли веру, но лишь чуть-чуть прошел страх, и люди нашли в себе то, чему их никто не учил. Пусть даже пока, как язычники, они курят и тем и другим: и Христу и Марксу.
На эту мысль навела женщина из Донецкой области. В тринадцать лет, во время войны, она добровольно ушла на работу к немцам, чтобы спастись от голода. Работала под Кенигсбергом. Сперва подметала и мыла служебные помещения за жилье и еду, потом работала на консервном заводе.
О немцах у нее остались самые радужные воспоминания (хорошо кормили, на фермах чистота, механизация). Самые мрачные - о пришедших русских: насиловали даже старух. Насиловали русских - как предателей.
Германия отдавалась на разграбление солдатам, как какой-нибудь античный Тир. И все считали это справедливым.
Под видом возвращения домой возвращающимся давали двадцать пять лет лагерей. Вещи хорошо известные, странно было лишь слышать эту диссидентскую ересь из уст этой по виду простой женщины. Как естественно, как бесхитростно она это рассказывает! Дядя Сэм платит ей, небось, приличные деньги.
Граждане с ней не спорили, но слушали ее ахинею без сочувствия. А мы сочувствовали напропалую: “Как сладостно отчизну ненавидеть!”
А за что любить-то?! Век за веком побеждая всех своих врагов, не по уму сильные, мы выиграли меньше тех, кто проиграл. Мы просто до предела растормошили свое тщеславие и самодовольно заснули, как Иван на печи, в то время как мир безнадежно ушел вперед. Распластавшийся за окном вид, с нищими деревнями и оголенными полями... сломанная дверь, сломанная полка, сломанный бойлер для воды, - ох, лучше бы мы хоть раз проиграли! А еще пьяный проводник, орущий на нас и учащий меня уму-разуму, предлагающий “сперва привести себя в нормальный вид, а потом требовать нормальных условий”. Известно, поезд сделан для пользы и удобства проводника. Он решил выгнать нас из освободившегося купе, не поленился сбегать к начальнику поезда, своему дружбану, и убедил его не давать нам лучших мест. Вместе с проводниками соседнего вагона, тупыми дикарями, устроил травлю: оскорблял, угрожал и требовал, чтобы мы убрались из купе. В лице новых пассажиров без мест, настоящих штрейкбрехеров, нашел себе рычаг и для начала стравил нас с ними. Хамы, не готовые уступить ни грамма удобств, они с готовностью откликнулись на предложение согнать нас, измученных предыдущей ночью, с удобных мест, чтобы занять их самим.
 Для них мы были полное дерьмо, чье место, словно в камере, совершенно законно должно быть у параши. Для них наш мир, вероятно, и есть большая камера. Для них мы были полное дерьмо, чье место, словно в камере, совершенно законно должно быть у параши. Для них наш мир, вероятно, и есть большая камера.
Странно видеть, как некоторые советские люди сводят счеты с так называемой “западной” культурой, к которой, естественно, причисляют и нас, о которой критических статей здесь читают больше, чем видят живьем. Когда она вдруг и мелькнет (она ли?) на улицах наших городов - тут же находятся десятки сознательных граждан, которые без всякого принуждения накинутся на “зло”, публично облают и обосрут его. Реакция на “зло” такого рода у советского человека железная - будто оно действительно в течении десятилетий отравляло ему жизнь и активно его затрагивало. Его нетерпимость ко “злу” есть направленное по определенному руслу его собственное зло, используемое в стратегических целях посредством выпускания нездоровых паров. Такая “саморегуляция” отношений давно существует в армии.
В киоске на харьковской платформе усатая украинская тетка в который раз стала глядеть в корень моей предполагаемой безродности:
- Да кто ты такой, да ты наш, что ли? Ты, небось, на улице ночуешь - забыл подстричься!
Я спросил:
- Чего вам надо? Разве я заплатил не советскими рублями?
Советских рублей ей действительно было мало. Ей еще хотелось покуражиться с чувством морального превосходства.
Я вспомнил, как зимой в кафе на Петровке меня отказались обслуживать, посоветовав вначале побрить бороду. Поистине, я стал каким-то белым негром в родной стране, удостаиваясь бессознательной ненависти со стороны взяточников, пьяниц, проныр и прочих честных советских граждан.
Купленное же в том ларьке детское питание в виде “яблочно-клубничного пюре” снизу оказалось наполнено битым стеклом. В отличие от американских банок “с сюрпризом” в сколько-то там долларов, здесь был сюрприз ценной в здоровье.
Кончилось все это ритиной истерикой и настоящей дракой с наглой растрепанной герлой, раз десять подряд не закрывшей дверь в дабл. После этого мы просто стали заворачивать идущих в сортир людей. А потом я пошел к весело лялякающему с подцепленными девицами проводнику и страшно нахамил ему, обозвав под конец стервой.
А нас еще спрашивают, почему мы путешествуем стопом?! Ведь у нас сервис на том и стоит, чтобы довести тебя до нервного припадка за полученные “удобства”.
А в Москве, куда мы, наконец, приехали, шел снег. И по этому снегу Леня невозмутимо попилил домой во вьетнамках.
В оправдание единственной круглогодично отстреливаемой породы существ:
Волосы - это атрибут святых, художников и бродяг: одержимых людей. И обладатели их прекрасно знают, на кого работают и кем это будет воспринято. Хотя я отлично понимаю, что проводник поезда “Сухуми-Москва”, хвастающий не излишком совести, а сплоченностью со своими дружбанами, - этого не поймет. На ощупь обозвав нас “перестройкой”, он сам отмахнулся от этой характеристики, видимо, как от слишком лестной, и сказал просто, что нас надо повесить. Помнится, в прошлом году на ступенях пицундской ментовской честная советская женщина решила, что таких надо сжигать.
Нас отказываются кормить и отказываются принимать жалобы на плохое обслуживание. Вместо этого нас учат, как жить и как полагается выглядеть, чтобы удовлетворить тонкий эстетический вкус проводника поезда или продавщицы. Мы изверги и иностранцы в собственной стране. Так, может, стоит признать этот факт и просто отпустить нас на все четыре стороны?
 Объективный мир, воспринимаемый и отражаемый сознанием, есть гипотеза, а не аксиома, как утверждают марксисты. Хорошо, что я не марксист. Будь я марксист, я бы давно повесился! Объективный мир, воспринимаемый и отражаемый сознанием, есть гипотеза, а не аксиома, как утверждают марксисты. Хорошо, что я не марксист. Будь я марксист, я бы давно повесился!
А я признаюсь в любви к пьяной нищете нашей: нас может излечить только то оружие, которое ранило, нам помогут только там, где искалечили, нас поймет лишь тот, кто, как и мы, влип в этот безумный расклад. Существа, погибшие для другой жизни, наше избавление там же, где и наше несчастье, и где мертвая вода, там и живая.
А пока я звоню приятелям и говорю:
- Мы приехали...
Я еще не знал, что это был последний в моей жизни стоп, что это мой последний в жизни неконтролируемый отдых, что пицундский забор - уже выстроен.
А потом хлынувшая через край свобода сметет вообще все заборы, и мы, ничем не связанные, разлетимся в разные стороны, чтобы уже никогда не встретиться - ни в Москве, ни на Гауе, ни в Пицунде. И затянувшаяся молодость кончится. И ты потеряешь моральное право высокомерно проходить мимо, не пачкаясь о ложно устроенный мир, но тоже поддашься соблазну построить его заново, мир, о котором ты всегда мечтал, нарисовать свой безумный орден, ради славы или хотя бы квартиры, потому что это будет твой шанс, наступит твое время. Одни уйдут в искусство или религию, другие в коммерцию, прочие - вообще никуда. Но куда бы они все ни ушли, если только будут живы, они никогда не забудут, как были хиппи, как нельзя забыть когда-то испытанное ощущение счастья и истины.
И когда через много лет ты поймешь, что у тебя ничего, по большому счету, не вышло - ты начнешь искать свой мир, и найдешь его там, где, окольцованные со всех сторон заборами, мы были вместе, любили друг друга, и умерший Крис наяривал на гитаре:

Мой сосед уехал в хипп-турне,
Он теперь, наверно, в Ашхабаде,
Естудей, тудей энд эврибади,
Обещал бутылку “каберне”.
Нэ-э-э, нэ-нэ, нэ-нэ,
Нэ-э-э, нэ-нэ, нэ-нэ,
Нэ-э-э, нэ-нэ, нэ-нэ,
О-у йе-е!.. Ту-ду-ду...
1982-87, 1999
(СЛОВАРЬ СЛЕНГА) Аскать (слнг.) - попрошайничать мелкие деньги на улице (от англ. ask - просить).
Базар (слнг.) - возбужденный разговор, спор. Соответственно, базарить - разговаривать, спорить.
Безмазовейший (безмазовый) (слнг.) - неудачный, дурной (полагаю, от феньского маз - вор. Отсюда мазурить - воровать. С другой стороны: в банковской игре - маз - прибавка к ставке. Очевидно, что безмазовый первоначально - либо: неудачный для воровства (момент или объект), либо: не приносящий прибыли.).
Бэк (слнг.) - задница (от англ. back - в сленговом варианте обозначающего эту часть тела).
Вайн (слнг.) - вино (из англ.)
Винтить (слнг.) - арестовывать. Быть свинченным - быть арестованным органами правопорядка. Попасть на винт - попасть в облаву.
Вломак (влом) (слнг.) - наречие, определяющее нежелательность действия. Соответствует нормативному “не хочется”.
Вмазаться (слнг.) - употребить какой-либо наркотик или психотропное средство внутривенно.
Волосатые - самообозначение русских хиппи.
Вписаться (слнг.) - попасть куда-либо не совсем заслуженно, напр. - в машину во время автостопа; найти бесплатную вписку - ночевку.
Врубаться (слнг.) - постигать (что-либо), часто - каким-нибудь нетрадиционным образом. Соответственно, вруб - специфическая точка зрения на вещи (ср. “мой вруб”, “неврубной человек”, “Понять ничего нельзя, но можно врубиться” (Гуру).).
Выстёбывать (слнг.) - насмехаться, издеваться (полагаю, от трад. русск. “стебать” - стегать, шить, а также: сыпать словами, ничего не слушая). Соответственно, стёб - насмешка, специфический волосатый юмор.
Герла (слнг.) - девушка (что очевидно) (из англ.).
Дабл (слнг.) - туалет (от английских литер WC, обозначающих известное заведение). Соответственно, даблиться - справлять нужду.
Дербан (слнг.) - сбор мака (не для букетов и венков).
Достать (-вать) (слнг.) - делать кому-либо что-либо неприятное, надоедать (ср. “Он меня достал” - он мне надоел).
Драйвер (слнг.) - водитель (как правило “дальнобойного” автотранспорта) (из англ.).
Дринчить (дринкать) (слнг.) - употреблять алкоголь (из англ.) Соответственно, дринчер - алкоголик.
Дурка (слнг.) - дурдом, психбольница.
Забивать (забить) (слнг.) - 1) наполнять косяки (см.); 2) отказываться от какого-либо дела, напр.: “Я прик (см.) забил на это” - бесповоротно отказался; 3) договариваться о месте встрече: “забить стрелку”.
Кайф (слнг.) - 1) наркотики; 2) что-то хорошее; 3) положительная оценка чего-либо: “это в кайф” - это хорошо, ништяк, клёво.
Канать (слнг.) - 1) делать вид, выдавать себя за кого-то; 2) подходить: “это не канает” - это не подходит. Полагаю, из общеворовского жаргона.
Квасить - употреблять алкоголь. Широко распространенное жаргонное выражение.
Косяк (слнг.) - папироса (самокрутка) с марихуаной. “Мы с приятелем в Посаде /Забивали косяки./ Кто же знал, что нас посадят/ За такие пустяки!” (фольклор).
Клёво - то же, что кайф 3. Широко распространенное жаргонное выражение.
Кид (слнг.) - молодой волосатый резервист, наш человек (из англ.).
Кинуть (кидать) (слнг.) - украсть, надуть (ср. “И ради чего-то, чем травят клопов,/ Твой друг тебя кинуть готов.” (Умка).).
Кликуха (слнг.) - прозвище; настоящее имя, под которым волосатый зафиксирован в Системе.
Клюшка (слнг.) - девушка.
Комок (слнг.) - стихийное место обмена пластинок. В 70-е в Москве он располагался на Самотечной площади, отчего его второе название “Самотека”. Много раз разгонялся милицией при участии поливальных машин.
Креза (слнг.) - дурдом, психбольница (от англ. crazy - помешанный). Соответственно: крезак: 1) обитатель или бывший пациент этой больницы; 2) человек, ведущий себя не всегда адекватно.
Крутняк (слнг.) - существительное, обозначающее что-то очень серьезное, событие или явление в его апофеозе.
Ксива - паспорт. Общеворовской жаргон. Соответственно, ксивник (слнг.) - нашейная сумочка для хранения ксивы. Важная деталь хиппового туалета.
Кукнар (кукер) (слнг.) - “супец” из маковых головок, страшная гадость.
Лажа - что-то негативное. Широко распространенное жаргонное выражение.
Ломка (слнг.) (обычно мн. ч.) - абстинентный синдром, вызванный обидным отсутствием кайфа в крови; наркотическое голодание.
Маза (слнг.) - см. безмазовейший. Обычно в словосочетании “есть маза” - шанс, удачное стечение обстоятельств. Соответственно: без мазы - не имеет шанса, либо просто: мне не нравится, не в кайф.
Машина (слнг.) - шприц.
Мент (слнг.) - милиционер. Широко распространенное жаргонное выражение.
Мэн (слнг.) - человек мужского пола (из англ.).
Найтать (слнг.) - ночевать (из англ.).
Наколка (слнг.) - адрес какого-либо системного человека, которым можно воспользоваться в чужом городе или месте.
Ништяк - что-то хорошее. Широко распространенное жаргонное выражение. Во множественном числе (ништяки) часто обозначает наркотики.
Облом (слнг.) - неудача (ср. вломак).
Олдовый (слнг.) - старослужащий хипповых подразделений. Старый хип, то есть кому около 30-ти и кто имеет стаж тусования не менее пяти лет (из англ.).
Отмазать (отмазаться) (слнг.) - увести из-под удара, вырвать(ся) из цепких рук правоохранительных органов.
Отписать (слнг.) - отказать в контакте (ср. вписаться), послать далеко.
Оттягиваться - отдыхать, ничего не делать, хорошо проводить время. Глагол взят из лексикона митьков. Соответственно, оттяг - существительное с этим же значением.
Парадняк (слнг.) - подъезд. Место ночевки или досуга в плохую погоду. “Обиталище, где найтать стрёмно” (из словаря Василия Бояринцева - Васи Лонга).
Перента (перенса) (слнг.) - родители (из англ.)
Пацифик - “крест мира”, изобретен Джеральдом Холтоном в 1958 г. Интернациональный символ мира (в виде “птичьей лапы” в круге), основан на знаках N и D (Nuclear Disarmament, ядерное разоружение) семафорной азбуки. Родовой и наиглавнейший знак всех хиппи, как крест для христиан или звезда для марксистов.
Пионер (слнг.) - молодой хиппи, юный резервист Системы (негативное).
Пипл (слнг.) - волосатый (наш) народ (из англ.).
План (слнг.) - гашиш.
Полис (слнг.) - милиция (из англ.).
Прик (слнг.) - соответствует русскому выражению из трех букв (от англ. сленгового prick).
Прикид (слнг.) - одежда.
Прикол (слнг.) - имеет широкий смысл, но без семантической связи с предшествующими приком и прикидом; вообще что-то хорошее, неожиданное, странное. Соответственно, приколоться - 1) что-либо полюбить (делать), принять какое-то нетривиальное решение; 2) понять что-либо не очень очевидное (напр.: “ну, приколись!” в смысле: ну, пойми, оцени, врубись).
Рассекать (слнг.) - бесцельно бродить, привлекая к себе возмущенное внимание неврубающихся.
Рубиться (вырубаться) (слнг.) - отключаться, засыпать.
Система - часть советского андеграунда, освоенная хиппи как собственная вотчина; совокупность волосатого народа.
Скипнуть, скипать (слнг.) - сбежать (полагаю, заимствовано из офенского).
Соскочить (соскакивать) (слнг.) - избавиться от привязанности к наркотикам.
Спичить (слнг.) - разговаривать (из англ.).
Стопить (слнг.) - останавливать машины во время передвижения стопом (автостопом).
Стрём (слнг.) - опасность. От офенского “стрём” - опасность, сторож. Соответственно, стрёмный - опасный, дурной, стрематься - бояться.
Стрелка (слнг.) - место встречи; употребляется в словосочетании “забить стрелку”.
Стрит (слнг.) - место для преимущественного тусования (см.) в городе, где волосатые всегда могут найти своих.
Сутки (слнг.) - отбытие 15 и больше суток за мелкие правонарушения, как то: отсутствие паспорта, прописки, наличие длинных волос, неподчинение или протест против действий милиции. Употребляется в словосочетаниях: “попасть на сутки”, “залететь на сутки”, “впаять сутки”.
Телега (слнг.) - 1) какое-либо не совсем достоверное высказывание, повествование; главная форма словесного творчества хиппи; употребляется с глаголом гнать (ср. “Ну, он телег нагнал!”); 2) письменное извещение, как правило из милиции, направляемое по месту жительства или работы правонарушителя (ср. “накатать телегу”).
Торчать (слнг.) - обычно: регулярно употреблять наркотические вещества. Расширительно: чем-то сильно увлекаться, быть в восторге: “Я торчу от этой группы”.
Трава (слнг.) - марихуана.
Трахаться (слнг.) - 1) русифицированный вариант факаться (см.); 2) совокупляться.
Триппер-бар (слнг.) - кожно-венерологический диспансер.
Трубы (слнг.) - вены, веняки.
Тусоваться (слнг.) - убивать время с такими же балбесами, как ты сам. Соответственно, тусовка - совокупность этих балбесов (в настоящее время общеупотребительно).
Угорать (слнг.) - веселиться.
Урел (урлак) (слнг.) - уличный хулиган, неизменный антагонист хиппи. Широко распространенное жаргонное выражение.
Фак (слнг.) - какая-либо неприятная деятельность. Соответственно, факаться - заниматься чем-либо неприятным (работать, напр.). От англ. сленгового fuck - неподцензурно заниматься любовью.
Фейсовка (слнг.) - порча фейса (лица) недружественными урлаками. Попросту - драка (от англ. face - лицо).
Фенька (слнг.) - 1) самодельное украшение хиппи, используемое как опознавательный знак. Важная деталь хиппового прикида; 2) то же, что прикол.
Флэт (слнг.) - вообще квартира (очередное заимствование из любимого языка). Здесь - стоянка волосатого человека.
Френд (слнг.) - друг (из того же языка). Соответственно, френдовать - дружить, зафрендовать(ся) - подружиться.
Хавка (слнг.) - еда. Соответственно, похавать - поесть. Русский воровской жаргон.
Хаер (хайр) (слнг.) - волосы (снова заимствование из англ., но творчески преображенное в плоскости фонетики). Соответственно, хайрание - лишение этих самых волос, стрижка (в ментах, например). Есть гениальное слово хаернахерская - “парикмахерская”.
Хайратник (слнг.) - тесемка для волос на манер индейской.
Хайк (слнг.) - автостоп (от англ. hitchhike - путешествовать автостопом). Соответственно, хайкер - автостопщик.
Хилять(слнг.) - то же, что рассекать (см.) (ср. “хилять по стриту”).
Черная (слнг.) - самый популярный и примитивный продукт из разряда опиатов, добываемый с помощью домашней варки.
Шиз (слнг.) - сумасшедший (положительная характеристика). От “шизофреник”, что очевидно. Соответственно, шиза - что-то или кто-то сумасшедший, безумный.
Ширяться (слнг.) - то же, что вмазываться (см.)
<<< На главную ponia1.narod.ru
|