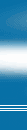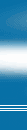|
Я карандаш с бумагой взял, нарисовал дорогу...
С. Михалков

Пока ехал на вокзал - в который раз обдумывал однажды пришедшую в голову странную сцену: таинственные существа играют в крикет человеческими головами в горной долине. И это случайно подсмотрел герой, заблудившийся в этих горах, как Рип Ван Винкль. Головы были все как на подбор красивы, не обезображенные тлением и страданием.
А вокруг стояли люди. Они чертыхались и толкали рюкзак, советуя с такой штукой ездить в такси. Идиоты, - вставлял я им про себя, - это не рюкзак, а фальшивый горб с контрабандно провозимой свободой, бутон будущей независимости (от вас)! Я на несколько недель стал улиткой, носящей на спине свой дом. Но ходить с домом в общественном месте, в другом доме - в этом есть какой-то метафизический нонсенс.
В последнюю минуту вскочил в тульскую электричку, буквально взяв ее штурмом - цепляясь за всякие выступы и приспособления кабины машиниста.
Путешествие началось. Мне предстоит проехать без билета, гостиниц, нормальной еды и прочего полторы тысячи километров. Полторы тысячи километров чистой авантюры.
В электричке не просторнее, чем в метро. Зато скоро у меня будет простору вволю. Я перестану быть черепахой на берегу, став естественным и легким в своей дорожной стихии. Предвкушаю это с волнением и истомой. Пока пользуюсь случаем и читаю Сергея Соловьева. Что реально движет историю: вхождение народа в эпоху культуры, как думал Соловьев, или смена социально-экономических формаций, ведущая к смене государственного строя вообще?.. Вся моя жизнь доказательство того, что формации трогать не надо.
Вылезаю под Серпуховым - здесь, если верить моему стопнику, ближе всего к трассе.
Стоя на дороге, я проверяю человека на способность к авантюре или любовь к ближнему. Ни того, ни другого у автовладельцев не наблюдается. Пустые сытые лица. Машины выдают только ублюдкам. Если и есть любопытство - то очень осмотрительное: не укусил бы. Все объясняется, наверное, еще проще: они трясутся, что я им испачкаю чехлы на сиденьях. И суеверно боятся, что, открыв дверь, они впустят внутрь их маленького железного рая вихрь беспредельного хаоса, который бьется снаружи, угрожая гарнизону крепости на колесах.
 Начинается дождь. Я спокоен: уж кто-нибудь да подберет. Даже в первый мой стоп летом 82-го года в Прибалтику, в который я пустился в одиночку и налегке, - я живым добрался до цели. Новичку страшно фартило на друзей и ночлег. Бог трассы был милостив к новобранцу, позволяя ему снимать сливки веры. Ни день пехом, ни ночь на неизвестном переезде в стогу сена - не поколебали моей решимости. Я осваивал новый опыт, идея новой жизни грела впотьмах. А также сознание того, что я зарабатываю очки в избранном кругу.
Начинается дождь. Я спокоен: уж кто-нибудь да подберет. Даже в первый мой стоп летом 82-го года в Прибалтику, в который я пустился в одиночку и налегке, - я живым добрался до цели. Новичку страшно фартило на друзей и ночлег. Бог трассы был милостив к новобранцу, позволяя ему снимать сливки веры. Ни день пехом, ни ночь на неизвестном переезде в стогу сена - не поколебали моей решимости. Я осваивал новый опыт, идея новой жизни грела впотьмах. А также сознание того, что я зарабатываю очки в избранном кругу.
Стоп, хичхайк - обычный и традиционный способ передвижения хиппи. А двигаться для хиппи необходимо, как пить. У него как у кварка - нет массы покоя. Хиппи вечный бродяга, лишь непринадлежащие никому вещи - природа и идеи, блуждающие в его голове, - интересуют его. На трассе, под открытым небом, в ста километрах от любого жилья - он свободен. Он может выбрать любое направление и поехать вперед без вещей и денег, вольный и живописный, как цыган.
 Теперь я был уже опытный боец, наездивший стопом тысячи километров по совковым дорогам, стопная практика и философия стала любимым приколом, и мало вещей на трассе могло меня удивить или испугать. Теперь я был уже опытный боец, наездивший стопом тысячи километров по совковым дорогам, стопная практика и философия стала любимым приколом, и мало вещей на трассе могло меня удивить или испугать.
Даже в этом году я уже скатал с Ритой и Малышом в Питер, скатал очень удачно, хотя выезжали из Москвы мы в одних маечках, а на развилке на Новгород пошел снег. Вернулся в Москву я так же очень удачно - на третьей бесплатной полке в московском поезде.
И теперь я ездил не с сумочкой, а запасался палаткой и спальником, чтобы встать на ночевку в любом месте. Это был самый лучший дом, не требующий ни мебели, ни платы за землю. На мне была двойная куртка, сшитая из военного кителя и рубашки, а на голове специальная панама, сшитая в три слоя из старых джинс, предназначенная защитить сразу и от солнца, и от дождя. Она вызывала у водителей не меньшее изумление, чем весь мой неуставной прикид в целом.
Водители ползут мимо, разбрызгивая воду. Им отлично виден я, бредущий под дождем и упрямо поднимающий руку при их приближении. Им хорошо там внутри. Вот когда постигается душа народа.
Дождь не кончается. Я медленно бреду в сторону Крыма. Через час такой погоды в моей славной панаме, как в корабле, образуется течь.
Самой сострадательной оказалась женщина за рулем ГАЗа. Она могла провезти меня лишь несколько километров, но не захотела дать мне подохнуть.
Водружаю мокрый зад на сиденье, сверху мокрый рюкзак. Это была передышка.
Она с интересом смотрит на меня и включает печку, чтобы я хоть чуть-чуть обсох.
- Я только до развилки, - еще раз предупреждает она.
Мне все равно. Хоть пару километров без дождя, хоть двадцать минут в сухом месте. Интересное начало путешествия. С тоскою жду, когда появится эта развилка. Дождь не кончается, и вновь на мокрое шоссе хочется, как в омут.
Развилки пока нету, и я пытаюсь резко прийти в себя, сконцентрировать внутреннюю силу - и не заболеть. Может быть, водительница пугала меня? Хорошо б, коли так.
Увы. Услужливо остановившись еще до развилки - перед горкой, она объяснила, что на подъеме меня брать не будут.
Но меня не брали и на спуске, и даже на ровном месте.
- Под горкой они разгоняются и тоже не останавливаются. Я прошел уже несколько километров по этим горкам, - отвечаю я, спрыгивая на мокрое шоссе.
Так и есть, выбранное ею место не оказалось местом силы и ничем не привлекало водителей к моей персоне. От дождя и холода рука бойца онемела. Поднимаю ее все медленнее и ниже. Какой толк - все равно не остановятся!
Я пытаюсь вспомнить стихи, подходящие к случаю. Выскакивает Шамиль: “Я индикатор вашей честности...”. И почему-то вспоминается Тютчев с его бедной природой и нищими селеньями. И отвратительным климатом. Предпоследний день мая, но обложной дождь и холод, как в октябре. А я-то думал о тепле и солнце! Сорвался, не дождавшись лета.
Становясь все более мокрым и неавантажным, я не стал внушать больше жалости. Куртка, кеды сделались совершенно “на воде”, словно я искупался в одежде. И я размышлял: сколько еще продержусь?
Встречные машины обдавали меня облаком брызг, задирали панаму и лишали последнего утешения.
В конце концов на мой очень призывный жест поддался драйвер из Чувашии. Втиснувшись в старенький КАЗ, я был оглушен шумом двигателя и воем приемника, который забивал последние участки тишины. Из щелей дуло, на полу плескалась вода, и я никак не мог согреться. Ноги так закоченели, что я полез за шерстяными носками. Шерстяные носки на мокрые, да еще в мокрых кедах - не большое утешение. Я серьезно решил сойти с трассы в Туле и сесть на поезд. Я так и сказал своему водителю: до Тулы.
Однако мой драйвер шел вокруг Тулы по объездной, и чтобы попасть в Тулу, мне опять надо было выходить под дождь. Мои стопные, высиженные в Москве желания не совпадали с теперешними, и меня страшила мысль, что уехав сейчас от Тулы, мне через некоторое время снова придется ловить под дождем машину. В свою автостопную звезду я положительно перестал верить.
Но под Тулой дождь неожиданно кончился. Я сразу как-то взбодрился, махнул рукой и поехал дальше.
...Как на людей действует ручка в руке. Как в прошлом году я заловил бешено мчащегося домой в Калинин частника-чеченца, теперь меня посадили в КАМАЗ третьим, на что я даже не рассчитывал и что вообще никогда не делается, если только люди не едут парой.
- Откуда? - спрашивает драйвер.
- Из Москвы.
- Что, вот так из Москвы и бредешь пешком?
- Иногда на транспорте, - усмехаюсь я невесело.
- Это что - спорт такой?
- Это когда машин нету. А вообще-то на попутках.- А зачем так вообще путешествовать?
Хочу, но не могу ответить водителю, что я путешествую автостопом, потому что так “дешево и сердито”. Говорю, что интересно и познавательно. Что тоже верно, хотя в данную минуту я в этом сомневаюсь. Он тоже. Я стал с отчаянием объяснять, что испытываю судьбу. На это можно возразить, что испытывать судьбу можно и более простыми способами. Более простыми - да, но не более красивыми. Всем же остальным советую: летайте самолетом. Это быстро и дорого. И не без риска - погибнуть вместе с красивой и любезной стюардессой.
Он едет в Запорожье, так что, если ему не надоест, везти меня будет долго. Это невероятная удача, о которой я и не мечтал.
Многие участки на ленинградской, ростовской и харьковской трассах - прямые до самого горизонта, словно проложены по линейке. Могли здесь линию провести, могли рядом, разницы нет. Ни историческое, ни экономическое, ни иное другое влияние не исказило и не отклонило пролетающую по этой пустыне прямую. Здесь просто нет никакого влияния или притяжения, словно в невесомости.
 Но в орловской и курской областях дорога петляет по деревням, не минуя, кажется, ни одной, - наверное, для того, чтобы в дождливую погоду здесь был хоть один проезжий путь, и меланхолический воз с сеном, за которым мы в данную минуту ползем, мог не беспокоиться о своем будущем. Так мы стали частью сельской идиллии. Но в орловской и курской областях дорога петляет по деревням, не минуя, кажется, ни одной, - наверное, для того, чтобы в дождливую погоду здесь был хоть один проезжий путь, и меланхолический воз с сеном, за которым мы в данную минуту ползем, мог не беспокоиться о своем будущем. Так мы стали частью сельской идиллии.
Мой драйвер чешет из Татарии, обкатывает новую машину. Он вообще любит брать людей. Трое, четверо в кабине - ему по фигу. Только веселее. Ему бы автобус водить.
В отсутствие автобуса сойдет и КАМАЗ, и откуда ни возьмись на нас насели деревенские стопщики. Они немолоды, суровы, неразговорчивы. За езду иногда предлагают деньги, чем освобождают себя от всякой формальной благодарности, в которой всегда рассыпаюсь я, в отсутствие чего-либо более вещественного.
- Возьмем? - спрашивает меня драйвер, словно мое слово решающее, кивая на стоящего на обочине мужчину с подковообразными усами и в темных очках, с двумя батонами в руках. Я гостеприимно распахиваю дверцу.
- Откуда вы такие? - Он с изумлением смотрит на меня и не спешит сесть в машину.
- Батя, все хоккей! - воодушевляет его мой драйвер.
Ссадили мужика - захватили демобилизованного солдатика. Кажется, единственные, кому мы отказали, была крестьянская пара, мужчина с женщиной: еще двоим уже не было места. Зато под Курском подобрали полную тетку с букетом сирени, тюльпанов и зеленых веток. Теперь нас в кабине четверо: я сдерживаю давление справа, слева упираясь в ручку скоростей. Поговорили о погоде, редиске и грибах. Слава Богу, эти двое перестали доставать меня трепотней про баб. Заводилой был мой драйвер (все дальнобойщики страшные эротоманы). Я же сидел посередине, на стыке информационных потоков. Изголодавшегося солдата этот вопрос, в отличие от меня, сильно волновал.
Промелькнул и скрылся милый городок Тросно с рестораном “Тещины блины”. И, в общем, все хорошо. Я еду на одной машине, словно в награду за дурное начало, которое я все-таки выдержал. Начало в путешествии - всегда самое трудное. Я высох, дождь кончился и не обещает начаться вновь, и я готов хоть сейчас сойти на трассу и ждать новую машину.
Мне легче, когда в машине много народу. Водитель оживленно болтает с попутчиками, не обращая на меня внимания, и я могу думать о своем, не мучаясь от дурацких бесед или от того, что не выполняю свой долг - развлекать водителя, отрабатывая дорогу. Впрочем, иногда бывают беседы весьма познавательные. Дальнобойщики - самые свободомыслящие и независимые из пролетариев. Они индивидуалисты и, подобно таксистам, давно живут в мире рыночных отношений.
Осторожно заговорил с моим водителем о совдепе. Если я более-менее знаю мнение интеллигенции, то мнение народа темно и загадочно, как сама его душа. Мой драйвер в принципе согласен, что из-за коммунистов мы сильно отстали от Запада. Нам надо многому у него учиться. Но бороться он считает бессмысленным: совдеп непобедим. Даже Гитлер его не смог одолеть.
Да, Гитлер оказал нам медвежью услугу: теперь не дай Бог заикнуться, что ты пацифист и против войны. Теперь война - это широкое поле для проявления фальшивого гуманизма и страдальческого патриотизма. И совдепу понадобилась новая война, новые ветераны, новая память и новые свихнутые мозги. Одного из этой гвардии я встретил пару лет назад на журфаке МГУ, поставленного во главе отряда, чтобы защитить от нас аудиторию, в которой выступал Аллен Гинзберг. Из МГУ нас выкинули. Понятно: с нами воевать - не с моджахедами. . . .
Дорога на Харьков - с еще более дурным покрытием, чем всегда. Зато до Курска не было никаких проблем с дизельным топливом. Потом его не было до самого Харькова. Но сама местность побогаче и поразнообразнее, чем в той же Воронежской или Ростовской областях. Чувствуется жирненькое черноземье.
У нас давно нету попутчиков, и драйвер начинает развивать любимую свою тему со мной.
Я сразу сказал, что у меня есть жена и нет побочных связей. И что живу в Москве.
 - Квартира-то своя?
- Квартира-то своя?
- Коммунальная.
- Соседей много?
- Да нет, одна женщина с ребенком.
- Хорошая?
- Ну, как сказать...
- Ну - не уродка?
- Нет, совсем.
- И ты ее как - дерешь?
- Нет.
- Нет?! Ну и дурак! Я бы ей обязательно вставил.
- Зачем?
- Как зачем! Ну, ты даешь! Слушай, дай адресок, я приеду в гости и отдеру ее!
Он был готов отодрать всех и все, что плохо лежит. Было видно, что человек с этой темы не скоро слезет. Я спросил: а как же его жена?
- А что жена? Я ее тоже деру. Она не в обиде.
- А если бы она так же делала?
- Как - так же?
- Ну, с другими мужиками.
- Убил бы, - режет, не моргнув глазом. - Ну, не убил бы, а отфуярил до полусмерти - и выгнал, пускай катится на х... Но она у меня хорошая, - кончает он. - А твоя?
- Моя тоже.
- Давно живете?
Я ответил.
Драйвер неожиданно сказал, что он за то, чтобы мужчина и женщина прожили бы друг с другом несколько лет, прежде чем расписываться (эту мысль он позаимствовал из авторитетного источника - официальной газеты). Меньше бы было разводов.
Я немедленно согласился (редкое для меня единодушие с официальной печатью):
- Все умные люди давно так живут. - Вместо нашей газеты я привел мнение американского профессора. И закончил: - Вообще, людям лучше вступать в брак в достаточно несопливом возрасте.
- Одно плохо, - посетовал мой драйвер. - Хочется самому вскрыть банку. Знаешь, как в анекдоте... - И он рассказал соответствующий анекдот.
Я возразил, что у молодых да юных еще нет настоящего характера и они очень меняются со временем, тем более от брака.
- Это правда, - с горечью согласился драйвер. - Вот моя такая была до замужества - веселая, бойкая! А теперь баба бабой...
Господи, какая это огромная страна! Проезжаешь километр за километром, сто километров, двести - и ничего не меняется: тот же пейзаж, те же деревья, те же колхозы, те же лозунги. Одно единственное выражение для всей страны. Тысячемильная гримаса, заметная, наверное, даже из космоса...
С совдепом бессмысленно бороться и потому, что нету конца, за который его можно было бы схватить и тряхнуть. Он настолько слился с им самим созданным пейзажем, что биться с ним так же бесполезно, как стрелять в солнце. Во многом совдеп - это уже народный характер, которому знакомо и любо быть нищим, ленивым и суровым. Совдеп слился с серым небом, со скудной травой, с дремучими лесами. Надежды рухнули, но совдеп спасает более сильный козырь: неумение русских породить достаточное количество интеллектов, гуманных и смелых, чтобы приподнять этот народ, из лона которого они могли появиться только трагически, вопреки нежеланию и ярости последнего.
Дальнобойщики люди не только свободные, но и смелые. На дороге случается всякое, поэтому мой драйвер всегда держит под сиденьем монтировку. Ночевать же предпочитают все вместе, чаще недалеко от постов ГАИ или больших городов. Люди знакомятся, вместе едят, пьют и трепятся. Они здесь со всего совка, им есть что порассказать. Я, как рыба-прилипала, тоже становлюсь свидетелем и участником ночевки.
Ночь в машине: оглушительно поет соловей, и огромные звезды.
Шоферы на стоянке обсуждают сенсацию, услышанную кем-то по радио: бундовский летчик перемахнул границу и беспрепятственно сел в Москве на Красной площади. Власти ошизели от этой так легко удавшейся наглости. Если каждый неумытый западный шалопай будет так просто нарушать нашу исторически неприступную границу, то что же останется от железного занавеса и былых совдеповских ценностей? Бедный спортивный самолетик обвинили в нарушении суверенитета огромной страны, и виновных в допущении этого сняли: вплоть до министра обороны. Совдеп бушевал. От армии требовали усиленной бдительности и истребления расхлябанности и попустительства.
Драйверы посмеиваются: сука - снял, небось, пока летел все объекты!
Это было логично: снял все объекты и сел в Москве. Ничего лучше они придумать не могли. Впрочем, они не сильно переживают: им в кайф, что военные обосрались.
Мой драйвер - оригинал: предположил, что немец сделал это просто на спор.
 Цветущие каштаны - это, оказывается, очень красиво. Где-то под Харьковом мы промчались по целой аллее цветущих толстыми свечами прекрасных каштанов.
Цветущие каштаны - это, оказывается, очень красиво. Где-то под Харьковом мы промчались по целой аллее цветущих толстыми свечами прекрасных каштанов.
Еще под Харьковом попали на новооткрытый автобан. Отличное покрытие, машин нет, знаков нет, тумбы под фонари уже начали разваливаться, так и не дождавшись этих фонарей. Автобан радовал нас километров семьдесят и кончился так же внезапно, как и начался. Снова унылая однорядка, где обогнать труднее, чем перелететь.
День уже клонился к вечеру, когда мы добрались до Запорожья. На окраине города драйвер меня высадил, объяснив, что едет на автобазу. Мы попрощались, мой долгий трип кончился.
На городском транспорте проехал через город. Это нетрудно в городе с четко выраженной главной улицей. В маленьких городах она есть продолжение трассы, в Запорожье трассу пустили по окраине, так что ее нелегко найти. Кто едет после работы домой, кто веселиться, я еду в поле, ловить новые колеса.
Однажды Диогена спросили:
- Зачем ты поднимаешь руку, когда нет машин?
- Приучаю себя к отказам, - ответил Диоген.
...Убрал постороннюю железяку с обочины, чтобы улучшить посадочную полосу. Но потенциальные попутные машины были укомплектованы бабами в кофтах и платочках. У такой консервативной публики благотворительность на дороге не в обычае.
Грузовиков нету - рабочий день кончился. Идут частники да тракторы. Частники - почему-то (или естественно) одни “запорожцы”. А “запорожец” никогда не идет на свист. Эта машина преимущественно голодранцев с большими семьями. Поэтому они всегда доверху забиты барахлом и домочадцами, использующими машину в качестве ломовой телеги, куда сверх барахла палец не влезет, и оттого, с полным алиби, они могут красноречиво сокрушаться из-за стекла по поводу невозможности взять на борт такого очаровательного попутчика, как я.
Наконец на каком-то местном автобусике еду в обществе возвращающихся с работы крестьян. Кругом мазанки и цветущие сады. Это богатейшая в мире земля, отчего и совдеп здесь менее тощ. Жилье, сады, заборы - все крепче, чище и помноголюднее. Реальный крестьянский быт сохранился на Украине лучше, чем в России.
Приазовские города ничем не примечательны. Но в Мелитополе стоит настоящий шатровый цирк “шапито”, с верхом из брезента, натянутого на многочисленные распоры. Этакая палатка на тысячу человек.
В Мелитополе вписался без билета в маршрутный “икарус” - затерялся в хвосте среди чемоданов, забившись для страховки за вделанный здесь холодильник. Дело не в деньгах, которые у меня все же были, но ехать бесплатно - честь автостопщика. Можно ехать на чем угодно: машинах, автобусах, электричках, поездах, но главное - ехать бесплатно, на халяву. Именно тогда ты чувствуешь, что весь мир принадлежат тебе, словно собственная квартира, по которой ты ходишь, никому ничего не платя. Платя кому-то деньги, ты признаешь существование хозяев расстояний. Но единственный здесь хозяин - это ты.
 Не трудно бродяге увидеть свет:
Не трудно бродяге увидеть свет:
Ему не нужен билет.
На медные деньги объедет мир
Непрошеный пассажир...
Постепенно я успокоился и перестал думать о разоблачении. По наглости я даже стал читать, словно имел все права здесь ехать. Так незаметно автобус ввез меня в Крым. Крым начинается с чудес: автобус летит по сплошной воде аки по суху. Инициация - прохождение сквозь воду. Так едущие на Кавказ проходят сквозь горы.
Я вылез в Джанкое уже ночью на случайной остановке, с беспокойством миновав водителя, который меня опять не заметил, словно я утратил материальность.
Итак, я был в Крыму. Первый раз за десять лет. Второй раз в жизни. Крым встретил меня дождем. Впрочем, было не холодно. Я расстелил спальник и улегся спать на лавочке под козырьком остановки.
Утром началось лето.
Раннее утро. Опять без кофе и душа. Это не ново. За последние годы я сильно привык без комфорта. Надо было выбирать: под крышей, с людьми, с их порядками и дрязгами - или без людей, но и без крыши. Мне это больше нравится. Собственно, тут никто не избалован жизнью, поэтому все такие крепкие и злые. . . .
 Исследование о кликухе (на трассе): Исследование о кликухе (на трассе):
Словно при крещении или инициации, вступая в Систему, адепт получает новое имя, отказавшись от прежнего мирского. Бывают странные варианты: мы слышали о герле с кликухой Фтататита, мы были знакомы с герлой с кликухой Бабушка Удава. Особенно везло иногородним: они получали прямо графские титулы: Паша Смоленский, Толик Гродненский, Макс Казанский.
Это имя, или кликуха, подчеркивает принадлежность к братству, и наличие кликухи ценится. Хиппарь без кликухи чувствует себя неполноценным. Кликуха как бы вмешивается в предопределенность паспортных данных. История начинается вновь.
Важно, что кликуху всегда дают. Существует телега, как знаменитый Москалев решил придумать себе кликуху и стал требовать, чтобы все его звали Хеопс. И все стали его звать Хеопс-Твою-Мать. . . .
Хан Гирей был не гостеприимен ко мне в Бахчисарае: по понедельникам он не принимал. Думаю: если бы Пушкину отказали на тех же основаниях и вместо фонтана и тени безвременно ушедшей красавицы он увидел бы толстую привратницу, одетую в шинель с чужого плеча, - он написал бы что-нибудь соответствующее в книгу жалоб, а не поэму. Однако в его время еще не додумались превращать обиталище - в музей, то есть создавать массу неудобств. С любым музеем у меня всегда одно и то же: в Питере, в Новгороде, в Баку, в Самарканде... - музей закрыт, потому что выходной или санитарный день, или ремонт, или случайно открыт, да сто человек очередь, пять туристских групп вывалило прямо передо мной из автобусов. Да я и не люблю музеи: все в них ненатурально, сделано людьми без фантазии, которые хотят внушить тебе уважение к случайным вещам, попавшим сюда совсем из другого места и времени, сунутым в музей до кучи или иллюстрации какой-то посторонней идеи. Это напоминает бедную антикварную лавку, только вещи эти не продаются, да ты и покупать бы их не стал.
И только с бесхозными и осыпающимися реликвиями все в порядке - за исключением проблемы добраться до них. Таковы новгородские и владимиро-суздальские храмы.
Но есть вероятность, что Пушкин так же не видел фонтана, как и я, так как всю его примечательность осмеял попавшийся мне драйвер-татарин. Он долго и яростно опровергал славу фонтана, сравнивая его с цедилкой на вокзале.
Собственно, хан Крым-Гирей приказал сделать не фонтан, а глаз, из которого вечно течет слеза. Смысл был в том, чтобы заставить камень плакать, сокрушаясь по потере прекраснейшей женщины. И мастер сделал глаз-цветок и улитку. Вот и все чудо. И если кто-то искал фонтан вроде версальского, то он ошибся дверью. Так что, может быть, Пушкин действительно не увидел фонтана, но то, что он увидел, дало ему верную ноту.
Под Бахчисараем селение под названием “Приятное свидание”. Кто-то когда-то здесь приятно свиделся. Боюсь, эти кто-то жили давно, прежде наших дедушек, и теперь не тянет попробовать. Потом будешь думать, как ноги унести.
Странно начинается лето. Всюду засохшие деревья, засохшие аллеи, засохшие сады. Льют дожди, вдруг наступают холода - и деревья умирают. Надеюсь, это не последствия позапрошлогодней катастрофы.
Тем, кто не умирает сам, помогает человек.
В Крыму все еще под впечатлением прошлогодней рубки виноградников, многие из которых древни и уникальны. А ведь чтобы вырастить хороший виноградник, объяснили мне, надо шестьдесят лет. Заодно рассказали, как татары выращивают виноград: вырывают глубокую яму, на дно сажают черенок, засыпают. Когда он прорастает, засыпают вновь и так далее. Когда же он достигает поверхности - это уже могучее дерево.
От Судака до Коктебеля меня вновь преследовал дождь. Но он не помешал побродить и порисовать здешнюю генуэзскую крепость. Я залез на стену и смотрел на море. Море было суровым и малоэвксинским. Оно совершенно оправдывало свое название, добавляя в свой цвет еще и зловещий свинцовый оттенок.
Все это ничуть не напоминало курорт. Здесь не было ни пальм, ни фонариков, ни музыки, ни отдыхающих. Это была реальность, мало изменившаяся со времен строителей этих стен. Что было по-своему ценно. Если не удастся оттянуться, то удастся хоть что-то познать.
Всю дорогу тщательно экономя минуты, я легко тратил их здесь. Мне еще надо сегодня доползти до Коктебеля, условно конечной точки пути. Там меня не ждет ни оплаченный санаторный номер, ни веселящаяся в знаменитом месте тусовка. Рита с Малышом прибудут лишь через несколько дней.
В Лисьей бухте меня вроде бы ждет Принц, но к нему я поеду уже после посещения Коктебеля. Да и искать в конце дня, где эта Лисья бухта - уже нет охоты.
Я еду в Коктебель, нарочно говоря шоферам именно это старое название. Они понимают и везут. Так же по дороге в Питер я назло говорил “Тверь”.
 Коктебель - сонное царство. Восемь вечера - и никого. Был соблазн: а не пойти ли мне в центр, посмотреть на курортную жизнь, поесть что-нибудь, отдохнуть после трех дней пути, послушать музон, наконец... Коктебель - сонное царство. Восемь вечера - и никого. Был соблазн: а не пойти ли мне в центр, посмотреть на курортную жизнь, поесть что-нибудь, отдохнуть после трех дней пути, послушать музон, наконец...
Центра я не нашел. Весь город состоял из нескольких улиц, и ни одна из них не вела к россыпям света и курортных радостей. Все было провинциально и убого, как в любом некурортном городе, сотню которых я оставил за собой на трассе.
В сонном царстве живут сонные люди. Живут как в доброе патриархальное время. Сидят по домам, смотрят телевизор, и больше им ни до чего нет дела.
Недостаток праздника - вот, что я ощущал во всех простых трудовых городах совдепа. Жаль, что Черное море - это не всегда праздник. Пожалуй, эта мысль составляла мою идею-фикс с шестилетнего возраста. Я рано почувствовал вкус к буржуазности и комфорту. Кафе, неяркий свет, расслабленный жест руки с сигаретой... И музыка... Наверное, момент музыки был самым важным - иначе как бы я смог миновать судьбу мажора - и стать хиппи, человеком, ценящим комфорт в равной степени с его отсутствием. Любовь к комфорту не проходит, но линяет перед еще более прекрасной и любимой шизой - свободой. Пожалуй, хиппи выбрал лучшую долю, потому что настоящего комфорта и тонкого попадания в стиль на обозримом пространстве кондовой не сыскать, а есть лишь грубейшие подделки. Но все же, приезжая на море, я привычным глазом ищу разноцветные фонарики в зарослях южной зелени и светящиеся в темноте кафе. Так в моих диких представлениях протекает настоящая жизнь, легкая, неотягченная доля каких-нибудь западных придурков.
Полночи я искал место для ночлега. Еще с вечера я как влюбленный обхаживал писательский Эдем. В воротах меня завернули. Не долго думая, перемахнул через стену: не знаю, чего я ожидал там найти. Нашел заросшие тропки, закрытые теннисные корты, светящиеся веранды, с которых раздавались голоса баловней судьбы и великих гениев земли русской. Редко, но попадались люди, испугано меня обходившие. Как и частники на дорогах, они тоже не любили посторонних, нарушающих их тихие возвышенные думы. Вряд ли меня можно было принять за писателя, даже какого-нибудь нового направления. И я все ждал, что кто-нибудь вызовет охрану и меня спровадят куда надо - за незаконное проникновение на территорию. И как-то так получалось, что ни одного подходящего куста или навеса, где я мог бы, кинув спальник, вздремнуть, не рискуя промокнуть или быть кем-нибудь найденным... Кажется, мной просто овладел стрем от усталости и голода.
В конце концов я переночевал под пожарной лестницей какого-то служебного здания. Было темно и грязно, моросило, бродили сторожа или какие-то случайные люди. И я все ждал неприятностей: в Эдеме тщательно отслеживают чужих.
Чуть свет я продолжил изучение города.
Пионерский лагерь “Восход” на западной окраине Коктебеля. На воротах огромными буквами: “Добро пожаловать”. Рядом с воротами табличка: “Прохода нет. Посторонним вход воспрещен”. Ворота наглухо закрыты.
Совдеп - это рассадник неравенства. Перед домом Волошина, который не терпел даже ограничительного столбика на пляже, глухая сетка и балюстрада. Вход строго по пропускам Союза писателей. Рядом закрытый пляж санатория “Голубой залив”: “Вход по курортным книжкам”.
Огромная территория Союза писателей красиво располагается за глухим забором с проходной у ворот. Там растут кипарисы.
Да что кипарисы - целый горный массив Карадага закрыт для посещения. Опять обхожу заборы, ищу лазейки. Чувствую себя везде лишним и незваным. Чтобы жить здесь, все время приходится лезть через забор и подозрительно оглядываться, не собирается ли кто-нибудь схватить тебя за бэк. Все оприходовано и разграничено: это для отдыхающих, это для пионеров, это вообще никак. Просто человеку, который сам по себе, радостей не отпускается. Красота и удобства предоставляются в качестве награды и поощрения. Если ты имеешь кучу денег, ты можешь уломать местного жителя, который на свой страх даст тебе кров, игнорируя штраф за нетрудовые доходы. Отдых на море - это тоже нетрудовой доход, если тебя не соизволили им наградить.
Если бы во времена Волошина или Пушкина было столько заборов - услышали бы мы когда-нибудь их голос с той стороны? На все эти “запрещено” хиппи лаконично отвечают: “Запрещено запрещать!” “Теще своей запрещай!” - хочется ответить мне еще лаконичнее языком моих драйверов.
- А в горы нельзя, - говорит мне женщина у дома со шлагбаумом.
Нельзя в горы - что за бред! С каких пор людям нельзя подниматься на вершины? А если меня ждут там боги?
Говорю им про Волошина, про то-се, потом плюю и обхожу их стороной.
Они по глазам поняли, что я не Волошин, наверх было сообщено, что граница нарушена. Вероятно, уже выслали людей на мой перехват. Но мне насрать. Я уже думал о другом. Доберусь ли я до вершин или не доберусь - какая разница? Я уже не добрался и, вероятно, никогда не доберусь до тысячи мест на этом маленьком глобусе. Еще одно поражение? Важно не быть побежденным в главном. Ведь я не прозакладываю душу за некие, даже прекрасные, частности мира. Мне важно лишь его общее. А этого они у меня не отнимут...
Смотритель шел мне навстречу и еще издали начал кричать, вероятно, предупреждая мое отступление. Я и не собирался бежать, продолжая нагло идти вперед - хоть немного выше к желанным горам. Поравнявшись, я лишь ответил на его тираду:
- Зачем вы знакомитесь на таком расстоянии?
Смотритель растерялся и захотел было воспользоваться моими документами, - но я не дал, чтобы не терять бессмысленно время:
- Разве вы милиция? Документы я показываю только милиционеру.
Тогда он повел меня на свой пост, дорогой пытаясь внушить мне сознание огромности моего проступка. Я не внушился, и после нескольких моих реплик об абсурдности защищать красоту для людей - от людей же, он замолк, пообещав, что там разберутся. Главный техник заповедника несколько раз назвал меня потребителем и мое отношение - потребительским.
- Ну, конечно, испотреблю я весь ваш Карадаг, кустика не оставлю. В таком случае посещение театра - тоже потребление. А также лесов, морей и прочего.
- Вы лишь болтаете языком и ничего не делаете.
- Это и есть самое важное дело - объяснять людям несправедливость применяемых к ним законов. А вот такое делание, когда ни до чего нет дела, и лишь бы мне платили зарплату - это и есть настоящее зло. Недопустимо, чтобы оскорбляли человека, а каждое “нельзя”, произвольно спущенное сверху, это величайшее оскорбление человеческой свободы. - Я прямо на пальцах им объяснил, как бессмысленно делать заповедники в людном месте.
- А если сорок тысяч будет сюда ходить, что останется? - возмутился главный техник.
- А если сорок тысяч будет не ходить? Это по-вашему нормально? Вы же плюете им в лицо! Если сорок тысяч лишены права пользоваться красотой, у них под рукой лежащей. Вы обращаетесь с ними как с детьми, несмышлеными и бесправными.
Но для этих защитников природы все люди - потенциальные разрушители, поэтому, спасая оленей и камень, который раньше вывозили отсюда на машинах, они просто запретили всем сюда соваться - и расхитителям и поэтам. Конечно, запретить легко. И если исходить из того, что законы нужно соблюдать, то с населением справиться ничего не стоит. Трудно только перенести всю массу этих бессмысленных законов и признать, что ты последовательно во всем неправ, а эти политиканы с четырьмя классами образования и липовыми заслугами - никогда не ошибаются. Или эти “защитники”, которые вольготно, никем не тревожимые, кайфуют здесь на природе.
Они пишут протокол, я читаю им лекцию. Но потом разошлись весьма мирно, и я даже понял, где находится Ичкидаг, куда я собираюсь ломануться в поисках Принца. Справедливости ради надо сказать, что этот протокол они никуда не отправили, ибо обещанный штраф из моей зарплаты так никогда и не вычли.
 Мой приятель-монтажник из Ялты, с которым я познакомился на набережной. Обоссал дверь исполкома и получил пять лет за злостный цинизм. В 71-ом он встретил в Сочи хайратого, с волосами до пояса. Тот сказал, что растил пять лет. Мой приятель-монтажник из Ялты, с которым я познакомился на набережной. Обоссал дверь исполкома и получил пять лет за злостный цинизм. В 71-ом он встретил в Сочи хайратого, с волосами до пояса. Тот сказал, что растил пять лет.
Господи, басня какая-то! Монтажнику, небось, привиделось со страху. Теперь, будь он жив, он мог бы канать за патриарха. Для 71-го это было безумно смело, несравненно смелее, чем для меня теперь. Это было странно даже по несоветским меркам. В 71-ом ни Плант, ни Лорд не имели таких волос. Это просто необъяснимый феномен: наш хиппи, якобы, стал растить волосы раньше, чем мальчики, которые пришли в Хейт-Эшбери в “Лето любви” в 67-ом, - впереди планеты всей.
А мой ялтинский друг спрашивает - не знаю ли я такого? В 71-ом мне было девять лет, в двенадцать я впервые встретил сверстников - фанатов “Битлз”. Между тем хиппарем, человеком Самой Первой Системы, и мной, человеком Второй, живущим во времена Третьей - пропасть, заполняемая лишь легендами и воображением. Ялтинцу, конечно, этих внутриконфессиональных вещей не понять. Он имеет тщеславное желание, чтобы его хиппи (то есть я) был как можно больше волосат и ничуть не хуже того, которого он встретил в 71-ом. Мой фанатизм так далеко не простирается. И все же он заставляет достать и показать ему хаер. Надеюсь, я его не разочаровал.
Сам он обитает здесь у приятеля-художника. И теперь я иду знакомиться с “коллегой” - на дальний конец Коктебеля. Это, кажется, последняя улица в городе, дальше только поля. Распугали всех местных собак. А еще говорят, на хороших людей не лают.
Художник обитает знатно: в покосившемся сарае, где иной постеснялся бы держать гусей. Здесь две комнаты, заваленные приспособлениями для пьянства, сна, и работы: висят картинки, валяются тюбики красок столетней давности, присохшие к палитрам, и тут же рядом кастрюли, бутылки и всякий хлам. Художник отсутствовал. Но это не важно: мой новый знакомый тоже оказался творческой личностью - он пишет стихи. За бутылочкой сквернейшей самодельной бормотухи прочел мне кое-что, пафосное и малопоэтичное. И все-таки собрат.
Позже все в той же хибаре поэт-рабочий рассматривает перо:
- Правильно говорят, что раньше писали гусиными перьями вечные вещи, а теперь вечными перьями пишут говно.
Самокритично. Реплика звучит очень кстати под боком у союзписовского санатория. 
Воспетый Гессе и Сольми ирис. Три лепестка раскрыты наружу, три лепестка куполом верх, словно эфемерный минарет, и внутри три совсем юных нежных лазурных лепестка дублируют три, развернутые вовне.
Элементарно и великолепно. Здесь человеку нечего прибавить.
Дом Волошина. Готическая мастерская. Прекрасный художник, подозрительно похожий на Рериха. Вероятно, не влияние, а сходное видение, сходная эпоха и настрой мозгов. (Кстати, ближайший крымский друг и приятель Волошина, художник Богаевский, действительно имел с Рерихом одну школу - Куинджи.) Голова египетской царицы Таиах, берестяные и деревянные туески, сделанные матерью, габриаки - корни и ветви прихотливой формы, выловленные из моря Волошиным и его гостями (от корней - псевдоним поэтессы). Зеркало в доме, которое отражало Горького и меня. Очень интересная конструкция дома. Чтобы попасть в мастерскую, надо подняться по наружной деревянной лестнице. Потом по внутренней лестнице на антресоли мастерской, где находится библиотека. С антресолей - снова наружу на веранду, и с нее по внешней лестнице на крышу-площадку (где Волошин ночью читал, паразит, гостям стихи...).
Предмет гордости совдепа и его язык: “К 1990 году мощность санатория возрастет до 1150 койко-мест”. Великий и могучий.
На коктебельском гриль-баре долго не мог понять цифру, обозначающую время закрытия. Стереотип не позволял увидеть в ней два ночи - это все равно, что встретить негра в русской электричке.
Я предполагал увидеть Коктебель более убогим и русским. Но он не русский, а украинский. В нем господствует белый цвет, и это придает чистоту и аккуратность. Впрочем, в нем есть один, но чудовищный многоэтажный монстр с чуть ли не единственным работающим магазином.
В своем лице я изображаю так необходимый вам Запад. Его можно не признать в любом другом обличье, но его невозможно безошибочно не признать в моем.
А вы морщитесь и плюетесь, понимая Запад лишь как гору магнитофонов и дешевого шмотья.
Там, в Москве, с развевающимся хаером рассекая по улице Горького, - казалось очевидным, что должность волосатого - украшение общества. Тонкий, изящный, с иконописным лицом и вьющимися по ветру волосами, трезвый, невозмутимый, не преследующий ускользающие блага, но спокойно хиляющий среди безумства с блаженной улыбкой освободившегося: он был уроком обществу в красоте и достоинстве, он был актером, играющим благородные роли... 
Грязный, усталый, со свалявшимися волосами, спрятанными под куртку, понуро бредущий в пыли по обочине, я, наверное, больше похож на опустившегося бродягу.
Стоп богат на встречи. Если вы хотите много узнать о нравах и о совдепе - отправляйтесь стопом без надежды на ночлег.
Черная, или Святая гора в Коктебеле, Ичкидаг и Лисья бухта под Щебетовкой. Просто урок географии, предваряющий новый путь.
А френды еще говорят, что не надо объяснять им про нашу жизнь. Они же даже не понимают, что такое человек на дороге. Они еще способны подвезти голосующего сельчанина, заменяя никогда не доезжающий автобус, но что такое автостоп и кто этот человек с рюкзаком в попиленных джинсах, а то еще и с хаером - это они уже понять не могут и разевают рот, вместо того, чтобы жать на тормоз.
В Крыму, впрочем, берут довольно охотно, но от Щебетовки мне пришлось трахаться пешком несколько километров до моря, и ни одна сволочь не взяла. А потом, оставив за спиной какую-то научную станцию (ходили слухи, что на этой станции тренировали дельфинов-шпионов) и поселок Курортное, прошел пару километров по камням вдоль берега, иногда влезая в воду, прокладывая путь в Лисью бухту.
Трахался я напрасно.
За полтора дня до моего приезда (рассказали местные жители) Принца свинтили менты. Уж я-то знаю, какие предосторожности соблюдал Принц. Пограничникам он никаких хлопот доставить не мог, так как жил в горах под защитой оврагов, деревьев и облаков (я нашел его стоянку). Менты придрались, что он жил без прописки. Интересно, у кого здесь можно было бы получить прописку? У птиц, ящериц, рыб? Эх вы, голубые горы! Эх ты, синее море! Будто негры, мы лишены даже такой радости, как вольный воздух. Ведь мы ни у кого ничего не крадем. Нам не надо ни ваших женщин, ни ваших макарон, ни вашей музыки, ни даже вашего портвейна. Мы забиваемся в самые труднодоступные места и только просим: оставьте нас в покое!
Кого они хватают! Неужели им не ясно, что будь Принц хоть в чем-нибудь виноват, он бы никогда не носил такой яркой приметы, как длинные волосы. Но он виноват именно поэтому. И еще он потенциальный наркоман, тунеядец и диссидент. А это уже серьезное правонарушение.
Есть способ претерпевать трудности - смотреть на них, как на прошедшие. Каждая секунда - это уже пережитая секунда, и то, что было трудно пять минут назад - кончено и забыто. Ты знаешь, что завтра или через неделю будешь вспоминать произошедшее с тобой - без страха и обиды. Делай это прямо сейчас. Эта отстраненность является хорошим душевным наркозом, избавляющим от слишком острого наблюдения несчастий.
Когда я долго стою на дороге, после бесполезного крюка в пустое место, где я, словно герои “Звездных кораблей”, не встретился со своим другом, и никто не берет, и не известно, где я буду сегодня ночевать и что вообще со мной будет в ближайшее время - я пользуюсь именно этим способом.
Кончается мой второй день в Крыму. Я вернулся в Коктебель, который, я думал, оставил навсегда, и заночевал в гостеприимном сарае художника. По пионерскому радио объявляется “двухминутная готовность всем отрядам к торжественной линейке”. Повторили дважды для глухих. Что бы эта фраза значила? К чему эта профанация торжественности - чтобы люди не разучились подчиняться?
Каждый такой факт - это еще один кирпич в стене моей ненависти к совдепу. Они осквернили все. Христос не велел клясться вообще. Они додумались брать клятву даже с детей. Едва научившись читать, дети должны вскидывать руки и выражать готовность сделать то, что от них потребуют платные демагоги. Мало того, что они сквернят себя ложными клятвами. Их заставляют делать то, что они не понимают, что и взрослый едва ли поймет без двух стаканов. Мероприятия, справляемые коллективом, заменили обязательную церковь, и, оглянувшись назад, совдеп легко бы узнал себя. Но он как в рот воды набрал и не хочет сознаваться.
Они говорят: “Ты пользуешься трудом”. Я говорю на это: а разве вы не пользуетесь книгами, не смотрите картины, не ходите в кино? Разве не ясно, что на фабрике работает не тот же человек, который сидит в библиотеке? Разве не нужны вам те, которые знают, которые хранят узнанное, которые защищают достоинство людей, не способных постичь, где их надули и пнули? Разве не нужны те, кто разбирается в искусстве, кто имеет свои ценности и может с первого взгляда отличить подлинное от фуфла? Разве не нужны люди, своими глазами видевшие Азию и Сибирь и много понявшие и запомнившие? Разве не нужны им адвокаты и исповедники, и разве это не труд - защищать добро и понимать красоту?
Лисья бухта в качестве стоянки, вероятно, отменялась, и надо было решать, что делать дальше. Я стал искать место для нашей совместной с Ритой и Малышом жизни - где-нибудь поближе, откуда можно было бы стартовать в любую сторону. В кемпинге, что на восточной коктебельской окраине, меня стали было оформлять, да вдруг спросили номер моей машины. Могло же такое прийти им в голову! С отсутствующей машиной перспектива разместиться в кемпинге (то есть поставить свою палатку на огражденной и “законной” территории, чего с таким рвением все время требовали менты) сразу стала сомнительной. Лишь по решению поселкома или лично начальника автостоянки мне могли разрешить здесь быть. Начальник же уехал в Феодосию. “Где же мне жить?” - спрашиваю я их. В горах нельзя, на берегу нельзя - и они еще рисовали карикатуру с безземельным мужиком, стоящим на одной ноге. Мне нет места даже одну ногу поставить. А ведь еще приедут Рита и Малыш.
В столовой, вопреки опасениям, почти не было народа. Но и есть там было нечего. Мне дали вчерашнюю вермишель, сделанную почти целиком из яичного порошка, так что она больше напоминала мелко нарезанную яичницу. К тому же чуть теплую. К ней мне налили ужасного белого чая. Чтобы как-то разнообразить стол и совсем не атрофировать пищевые рецепторы, я купил коржик с сахаром. 
На улице я пресекаю тухлые эмоции и открываю Керуака.
Американцы - удивительный народ, на который мы похожи как ночь на день. Их битники почти сразу после войны могли по приколу путешествовать по стране на своей машине, подобно тому, как мы путешествуем на чужих. Лишаясь же по своей безалаберности этой машины, они так же легко переходили на автостоп (они и ввели его в молодежный и идейный обиход), с тем немаловажным отличием, что всегда могли подменить уставшего водителя.
Мой драйвер из Запорожья тоже спросил меня: могу ли я сесть за руль? И я со стыдом признался, что не обучен этому жлобскому навыку. Будь я этим моторизованным битником, проблемы с указанием номера машины у меня бы не было. Проблема в другом: благополучный и сытый Аксенов уже пробовал подражать образцу и доказал лишь то, что не все их парадигмы хорошо на нас ложатся, выливаясь в амбициозную и ложную игру.
Их битники имели лишь два дела: пить кофе и дринчить. Даже трахались они редко по причине нищеты и непрезентабельности. “Чай” у них употреблялся исключительно в значении “трава”. А мы пьем чай и спичим. Хотя “чай” у нас значит “чай”, а “трава” - “трава”, пусть и не та, что растет под ногами.
Украинская пара у дома Волошина:
- А шо нас сюды не сводылы? - спрашивает женщина.
- А шо здись таки булo? - спрашивает муж.
Как эти достойные люди лихо обошлись без культуры!
Стоит наступить погожему дню, как все мужчины напяливают синие спортивные трико с отвислыми от долгого употребления коленями и шастают в них по городу. Это считается у них выходной одеждой. Но в домах отдыха это уже стало стилем. Хотя это просто затрапез, вроде ночной рубашки, в которой не принимают гостей. В Москве так разгуливают у себя дома отцы семейств. Когда-то все они, по совковой шизе, занимались спортом и, натянув трико, качали бицепсы. Теперь они ленивы, толсты, но экономны: не заводить же брюки для дома! 
В своих грязных джинах я по сравнению с ними - денди.
Все одно к одному. Баня, оказывается, уже десять лет не работает. Чтобы помыться, надо договариваться с банщицей из “Голубого залива”. Самый сезон, но в Коктебеле куча закрытых на ремонт магазинов, включая самый большой. Неужели невыгодно торговать в популярнейшем курортном месте? Или здесь какая-то особая мудрость и предусмотрительность администрации?
По дороге в голубозаливский душ меня обложили отборнейшим матом, в дyше же отказали на основании правил: моются только обладатели курортных книжек. Лишь книжка дает право быть чистым. Никакие мои резоны не подействовали, как раньше они не подействовали на карадагских смотрителей, как не подействовали на администрацию кемпинга. И только частный человек, ялтинский рабочий или водитель, - может тебя понять. 
И газеты еще трендят про этих грязных хиппи, а когда они пожелают прибегнуть к благам гигиены - им дают под зад ногой.
Читал на набережной, и случай свел с местной женской молодежью. Развязные и легкие на знакомство. Обозвали художником - видели, наверное, как я рисовал волошинский дом. Заставили взяться за карандаш и нарисовать портрет одной из них. Через них зафрендовал с бродившими следом грузинскими документалистами из Тбилиси. Ни те, ни другие не знают, кто такой Волошин, но с одним из грузин, Сандро, у нас получился интересный разговор о евреях, кино, музыке и молодежных течениях. Вновь встретился с ними в столовой, и они приветливо пожелали мне приятного аппетита. Очень вежливые люди, хотя и звучит, как издевательство: для местной бурды нужен не приятный аппетит, а сильный голод.
На второй день моего знакомства с коктебельским гриль-баром мне в недвусмысленной форме была разъяснена моя ошибка. Ткнулся туда около десяти вечера, надеясь застать самое веселье и хоть немного перебить карму советского общепита - и узнал, что заведение уже закрыто. Кивнув на дверь, бросил бармену, считавшему прибыль за стойкой, что по их расписанию этого не скажешь. Мне посоветовали носить очки: бар работал до двадцати двух, но второе два сильно стерлось. Я был прав: в этой стране лучше доверять не зрению, а опыту.
...Вечером мое коктебельское настроение становится ярко отрицательным. Я не понимаю, зачем я здесь, почему плачу семь рублей за липовую прописку на три дня, незаконно предоставленную мне служащей кемпинга. Я не люблю, не доверяю этим людям, новым соседям, я чувствую их враждебность и иронию: один, патлатый, в милитаристской рубашке, в своей палатке, как в своей бочке, среди этого кичливого придурковатого оттягивающегося пипла, не ставшего добрее даже здесь. Я - чужой на родине великого прикольщика и поэта Волошина, наивно вообразив, что именно здесь я буду дома.
С соседней турбазы гремит советская эстрада. Несколько раз за вечер доносится песня про каких-то “верных кастратов”. Кемпинг пустеет: люди идут развлекаться. Притягивают ли их “кастраты”, знают ли они другие места - неизвестно. И где развлекаются те, что развлеклись здесь?
Я приехал на родину поэта, а нашел здесь толпу уродов, не имеющих в себе ничего, кроме праздности и жажды тупого кайфа.
Я мог бы перемениться им в угоду, замаскироваться, но это бы ничего не изменило. Я бы все равно знал, что они такое и что изменились не они, а я. Я пытаюсь сделать их шире, заставить думать и быть менее советскими, но они уже двадцать лет отказываются во что-нибудь врубаться, смотрят как в первый раз и выражают полный неконтакт. Если бы не мой ялтинец, не пара грузин и не те веселые герлы с набережной - мое пребывание здесь явило бы полное фиаско. Я, конечно, могу уехать - но куда? Я ужасно устал, и к тому же не могу сидеть один в Лисьей бухте, бродить в поисках дров, варить для одного себя хавку, скучая глядеть на холодное море, стуча зубами прятаться, пережидая дождь, все время на стреме, не появятся ли менты или пограничники...
 Среди людей я постоянно оплеванный и один. Я один - наедине с небом и горами, погруженный в тоскливые медитации, не верящий ни в благодатность небес, ни в богоовеянность гор. Мир остался бы чужим и равнодушным, даже если бы я не претерпел здесь ничего, - не находя живого неписьменного выхода своей душе. Мне трудно жить в хаотичном, демоническом мире природы, мне невозможно жить в тирании застывшего мира людей. Среди людей я постоянно оплеванный и один. Я один - наедине с небом и горами, погруженный в тоскливые медитации, не верящий ни в благодатность небес, ни в богоовеянность гор. Мир остался бы чужим и равнодушным, даже если бы я не претерпел здесь ничего, - не находя живого неписьменного выхода своей душе. Мне трудно жить в хаотичном, демоническом мире природы, мне невозможно жить в тирании застывшего мира людей.
Сегодня последняя возможность существования в кемпинге была отравлена приездом дивизии пионеров с палатками под началом своих воспитателей. Они окружили меня со всех сторон и стали ставить палатки колышек в колышек с моей, хотя кругом было полно пустой земли. Сразу начался шум, стук и ругань. Тут-то я и подумал, что обучение действительно должно быть раздельным. В атмосфере школы или лагеря дети разных полов живут друг с другом как антитела.
 Теперь у меня под боком ведутся непрекращающиеся базары, дележ палаток, ссоры и оскорбления в адрес противоположного пола, принадлежать к которому считается верхом позора - что не мешает проявлять к нему патологический интерес. Это заставило меня сбежать и до темна бродить и читать. Когда около десяти я вернулся, палатки уже стояли, но из них доносился такой мат и гогот, в добавление к несмолкающему ни на секунду трепу, продолжавшемуся до полуночи, что заснуть было мудрено.
Теперь у меня под боком ведутся непрекращающиеся базары, дележ палаток, ссоры и оскорбления в адрес противоположного пола, принадлежать к которому считается верхом позора - что не мешает проявлять к нему патологический интерес. Это заставило меня сбежать и до темна бродить и читать. Когда около десяти я вернулся, палатки уже стояли, но из них доносился такой мат и гогот, в добавление к несмолкающему ни на секунду трепу, продолжавшемуся до полуночи, что заснуть было мудрено.
Утром пошел опять в столовую за своей любимой лапшой. Но вместо лапши так же безальтернативно - пюре. Тем лучше. Пюре, две чашки чаю и вилка - так как десертная ложка во всех столовых России не полагается.
Очень серая публика. Шагу не пройдешь, чтобы кто-нибудь не запал на волосы. Они словно только что из леса, и мнения столь же непосредственные. Опять наименование в среднем роде, знакомое по Москве, те же смешки и пристебы. Украинская герла деревенской наружности (кажется, все украинцы таковы) громогласно сообщила всей столовой, что волосы у меня должно быть до задницы, я их только скрываю под курткой. “Язык у тебя до задницы!” - хотел ответить я, но воспитанность не позволила. Тут намечается какая-то закономерность между длиной моих волос и длиной языка базарящих по их поводу.
Лучше бы оценили мою скромность и смиренное нежелание бросаться в глаза, - а не кипятились, подозревая худшее, горя интересом к второстепенным и искусственным тайнам, до которых женщины, оказывается, охочи не меньше мужчин.
 Погода на редкость хреновая. Тридцать раз на дню начинает идти дождь и светить солнце. Иногда они делают это вместе. Серо и ветрено. На море смотрю лишь издали, нет никакой охоты подходить к нему близко. Погода на редкость хреновая. Тридцать раз на дню начинает идти дождь и светить солнце. Иногда они делают это вместе. Серо и ветрено. На море смотрю лишь издали, нет никакой охоты подходить к нему близко.
Кликуха “оно” распространилась как лихорадка. Уже чумички с сумками и в платочках встречают меня этим зовом. Как ангела, бестолочи!
Встретил знакомую Инну из Вильнюса и сразу пришел в себя. Есть перед кем блеснуть. Сплин прошел, иду смело, хаер наружу, даже хочется сделать какую-нибудь дерзость - всем этим типам, которые уместны в Планерском, но которым нечего делать в Коктебеле.
Детский лидер - это тот, кто в большей степени урел, кто до печенок вульгарен, вызывающ и агрессивен. Он хохочет, а не смеется, нажимая на грубое так же, как художник нажимает на тонкое. Обычно он выше других и кажется раньше созревшим для трах-тарарах. Со сверстниками у него обращение начальственное: он исключительно приказывает, кидает оскорбления и раздает оплеухи. Любимый прием настоять на своем - предупредить о близкой возможности получить по яйцам. Со старшими он хамоват или развязно подобострастен. Проявляет повышенный интерес к вопросам секса, хотя со сверстницами предельно груб и циничен. Свою взрослость демонстрирует через подчеркнутую скабрезность своих интересов и своего юмора, курение и мат. В активных играх превосходит всех силой и ловкостью.
Это некоторые походя сделанные наблюдения.
В назначенный день на автобусе приезжают Рита с Малышом. Со скромностью, подобающей заслугам, веду их к своему жилью.
С ближайшей турбазы уже не первую ночь гремят “верные кастраты”. Хочу понять сию притчу и обращаюсь к Рите, как к арбитру. Она напрягает слух, но мой вариант отравил ей чистоту восприятия, и теперь она тоже слышит “кастратов”. Так я и остался с этой загадкой. (Позже я узнал, что настоящие слова песни: “верные, как стража”. Тоже неплохо.)
 Гуляя в окрестностях Коктебеля, встретили на исходе дня двух субъектов, варящих на костре в эмалированной кружке суп из пакетика. Гуляя в окрестностях Коктебеля, встретили на исходе дня двух субъектов, варящих на костре в эмалированной кружке суп из пакетика.
- Зачем же так мучиться? - сказал я. - У меня котелок есть.
Одного зовут Пес. Он из Питера и тоже ищет место, где найтать. Другой - Коша, который вообще ни в одном городе не прописан. По налаженному способу “прописал” их рядом с собой.
Глядя, какую еду здесь себе позволяют туристы, хочется спросить: за что такая милость? За то, что отказались от услуг художников и, соответственно, от оплаты их труда? Поглощая свои чудовищные обеды, они легко могут обойтись без художников, им уже нет места в их печенках.
Поэтому мне небезразлично соседство моих новых друзей.
Сидя ночью у костра, Коша рассказывает историю про настоящего панка: на одном флэту, где как всегда пили, появился панк, приехавший откуда-то из Сибири. Другой, уже хорошо ужравшийся панк начал его прикалывать: “Ну и морда же у тебя, браток, как жопа!” Выслушав это в очередной раз, сибирский панк спросил: “А ты видел мою жопу?” “Нет”. “Хочешь взглянуть?” “Хочу”. И сибирский панк снял штаны и показал свой бэк. Тот, который приставал, сразу засох. Мы тоже дружно выразили восхищение и солидарность с поведением настоящего панка. Я даже не удержался от сентенции, что надо быть таким же настоящим хиппи.
Кучук-Енишар, могила Волошина. Выложенный черными камешками крест на надгробии, халцедоны, неизвестные мне зеленые камни и полевые цветы.
Продолжая вместе гулять по окрестностям, нашли замечательное место - Тихую бухту, отделенную от Коктебеля мысом Хамелеон. Решили перебраться сюда и поставить палатки. Пока здесь, в свершенной гармонии с названием, никого нет, только несколько диких олив растет на вершине небольшого граничащего с морем холма, под которыми мы поселяемся. Но нет здесь и воды, и дров для костра. Несколько часов в сгущающихся сумерках мы ходили по берегу и горам, собирая палки. Притащили большую обломившуюся ветку, почти целое дерево. Рита попросила топор и попыталась его рубить. Я рядом развожу костер.
- Бесконечно можно смотреть на три вещи: море, огонь и на то, как другие работают, - сообщает Пес, примостившись рядом.
Ритин смех внезапно обрывается, и она разрубает себе кед вместе с пальцем.
- Зачем ты стала это делать?! - запоздало возмутился я, прежде чем полез за йодом.
- Ну, так кому-то надо было это делать, - оправдывается Рита.
Слава Богу, рана была не глубокая и вскользь.
Коша, или Костя, или Параноик, известный в Питере, как Тихоня. Тусовщик с двенадцати лет - вместе со своими четырьмя братьями и сестрой. Детство с не вылезающей из больниц матерью, перманентно исчезающим отцом. Хайк, маковые и конопляные поля, на которых убили одного из братьев. Другой из-за тех же полей сел. Ну а Коша - крезак, первая статья. Таких я видел впервые, их и выпускать-то не должны, вечная койка. Хотя его, положим, и не выпускали. Человек без паспорта и шесть лет без работы. Без прописки и постоянного местожительства. Сам он из Ростова, но в основном живет в Питере у некоего Монаха. После девятого класса бросил школу и занялся скитальчеством и самообразованием. Много читает, немного знает английский. Торчал на всех видах кайфа, включая таблетки катерпина, что в пять раз сильнее черной. У него больная почка, много раз лежал в дурдомах общего и строгого режима. Азия, Владивосток, Мурманск - ареал странствий. Говорит неправильно, но информации воз.
Утром решили сматываться из дождливого, безводного, лишенного дров Крыма. Впятером поехали в Феодосию. Погода как на грех улучшилась. Побывали у Айвазовского и Грина. На одной из улиц нам попался паренек с легким намеком на хаер. Он кинулся к нам, как к родным, а потом повел к своим знакомым, супружеской “волосатой” чете. Его зовут Толиком. Друзей - Димой и Наташей. Они снимали старый одноэтажный дом с небольшим садом.
 Дима с Наташей предложили остаться у них на ночь. Дима “металлист”, то есть слушает и играет “металл”. Я принципиально никогда “металл” не слушал. Дима сказал, что я просто не врубаюсь, и вознамерился меня просветить. Пришлось пойти на подвиг - в благодарность за гостеприимство. И что же, весь этот прославленный страшный “металл” оказался просто скучным вариантом “Rainbow”, который я крутил на своем бобинном маге лет десять назад. Дима с Наташей предложили остаться у них на ночь. Дима “металлист”, то есть слушает и играет “металл”. Я принципиально никогда “металл” не слушал. Дима сказал, что я просто не врубаюсь, и вознамерился меня просветить. Пришлось пойти на подвиг - в благодарность за гостеприимство. И что же, весь этот прославленный страшный “металл” оказался просто скучным вариантом “Rainbow”, который я крутил на своем бобинном маге лет десять назад.
Выяснилось, что жена Димы Наташа работает экскурсоводом в музее Волошина. Каждое утро она отправляется туда стопом. И она видела меня, когда я посещал волошинский дом. У нее же нашлась подборка волошинских стихов: фотокарточки с какого-то тамиздата. Всю ночь я просидел у них на кухне, читал и переписывал кое-что в свою тетрадь, чтобы потом в тяжелую минуту твердить наизусть:
Край одиночества,
Земля молчания...
Сбылись пророчества,
Свершились чаянья.
Под синей схимою
Простерла даль
Неотвратимую
Печаль.
Утром был новый тур по Феодосии. Нищая старушечья торговля на асфальте. Даже нам показалось чрезмерным отсутствие всякой санитарии, воды в туалете и прочего. Прошел всю Феодосию в поисках хотя бы одной приличной книги. Сели отдохнуть у особняка некоего табачного фабриканта на набережной, сделанного в турецком стиле. Малыш первым делом запустил камнем в ближайшую “волгу”. Классовая ненависть.
Растерянные от внезапной жары власти еще не успели натянуть ткани на пляжные грибки. Валяемся на камнях, положив под себя одежду. Когда встали, на ней остались белые пятна, как от кислоты. Много мороженого, всюду торгуют пляжными принадлежностями самого бросового вида. Все столовые и кафе в три часа закрылись, и мы безуспешно бродили по городу, ища, где поесть. Пробродили до окончания перерыва, поели и утырили несколько общепитовских ложек для собственного пользования.
Вернувшись к Диме и Наташе, нашли там Шурупа с Алисой, только что приехавших из Москвы. С ними еще один знакомый - Петя. Они собирались полностью повторить мой маршрут: двинуть на встречу с Принцем в Лисью. И тут их перехватил Толик-следопыт.
 Во время оживленного разговора во дворе диминого дома пришел Малыш - просить сигаретную или спичечную коробку, чтобы построить “стену дворца”. Во время оживленного разговора во дворе диминого дома пришел Малыш - просить сигаретную или спичечную коробку, чтобы построить “стену дворца”.
- Стены надо разрушать, а не строить, - сказал Шуруп.
Он же рассказал, что в Москве на одном из домов висит табличка, что здесь “бывал Ленин”. Его всегда интересовало: в каком смысле “бывал”: не жил, не выступал, а “бывал”. К любовнице что ли бегал? И добавил:
- Если бы у меня был собственный дом, я бы повесил на нем доску, что здесь никогда не бывал Ленин и никогда не будет.
“Кильдым”, - говорит Шуруп, сообщая, что все ништяк. И, вдохновленные, мы решаем вернуться в Коктебель. На это повлияли и феодосийцы, пообещавшие нам волошинский дом почти что в пользование. Шуруповой компании хочется увидеть Коктебель и дом (никто, кроме меня и Риты, много лет назад, - его не видел).
Утром поехали на автобусе вместе с Наташей и Толиком. Она устроила нам личную экскурсию и, словно почетных гостей, водила по дому и саду, включая непосещаемые туристами комнаты, разрешая свободно и долго ходить и смотреть, трогать руками и высказывать мнения, словно мы и вправду гости в этом доме, а не бедные экскурсанты. Показала в окно “профиль” хозяина, заблаговременно изваянный благодарной природой на прибрежном утесе Кок-Кая.
Погода покуда устойчиво хорошая. Феодосийцы полагают, что так оно будет и дальше. Предлагают остаться у них в Феодосии. Но нас тянет на проверенное место в Тихой бухте. Это ностальгически походит на дикий пицундский туризм.
Придя в бухту, обнаруживаем, что развязали пояс невинности: справа от нашей бывшей стоянки красуется “жигуль” с московскими номерами. Хозяева раскинули огромную польскую палатку, напоминающую дом и имеющую даже прихожую. У них было целое хозяйство, включая магнитофон с нескончаемо звучащим и сильно доставшим Розенбаумом.
С ними мы не свели никакого знакомства.
Мальчик Петя. Он, что называется, “пионер”. Еще едва волосат, инфантилен, восторжен и довольно начитан. Шпарит наизусть из Есенина. С ним можно вести интеллектуальные беседы. Больше он ни на что не годится: ни палатку поставить, ни костер разжечь, ни хавку приготовить - этого от него не дождешься.
Беру у него читать его любимого Есенина.
Счастлив, кто жизнь свою украсил
Бродяжьей палкой и сумой.
Как “отец семейства” и, соответственно, самый уязвимый здесь член - иду первым в город за хавкой.
 Как всюду в провинции, магазины работают со страшной произвольностью и, как сегодняшний книжный, закрываются в любое время, потому что единственный продавец уехал в Феодосию для отчета на пол рабочего дня. Как всюду в провинции, магазины работают со страшной произвольностью и, как сегодняшний книжный, закрываются в любое время, потому что единственный продавец уехал в Феодосию для отчета на пол рабочего дня.
На обратном пути встретил своих недавних соседей с красными галстуками.
Хорошо, однако, что мы посетили могилу Волошина раньше, чем туда стали водить пионеров. Из-за них всякое хорошее место начинает напоминать мавзолей.
У активно христианизирующегося Шурупа взял Иоанна Кронштадтского (из всех книг остался лишь Керуак на английском). Воспевая красоту и мудрость творения на первых десяти страницах своей христианской философии, Иоанн Кронштадтский впал в противоречие с собой на 14-ой, процитировав иаковское: любовь к миру есть вражда на Бога. Получается, что Бог поманил пряником и увлек в ловушку. Или же, что сотворил нечто недостойное любви, создав разлад в творении, обрекши одно великое начало бытия пренебрегать и презирать другое.
Недостоверно и скучно.
Анжела появилась в нашей компании случайно. Она просто шла по дороге вдоль берега, где ее заметили Пес с Кошей и пригласили к нашему костру. Потом они целый час решали, кто будет спать с ней в палатке. Пес, как хозяин палатки, победил. К тому же более философичному Коше воздержание на свежем воздухе, очевидно, более к лицу.
Так она у нас и осталась. Она училась в Москве на философском факультете, родила дочь - и уехала скитаться в Крым.
Потом рядом с нами раскинул свою палатку экс-альпинист Женя из Баку, который теперь каждую ночь проводил у нашего костра. Следом появилось три совсем левых человека из Львова, у которых даже не было палатки. Они сбегали в город и вернулись спортивной трусцой, неся три пляжных лежака. Потом они сделали тент из целлофана на ветвях дерева и поселились под ним.
Так укомплектовалась наша колония.
 Главный хипповый принцип: не делать ничего, что вломак. Потому что, если начать делать то, что вломак, то рано или поздно превратишь жизнь в лажу. И будешь, может быть, сидеть на мягком пуфике и даже с чувством выполненного долга - и ощущать себя несчастным. Главный хипповый принцип: не делать ничего, что вломак. Потому что, если начать делать то, что вломак, то рано или поздно превратишь жизнь в лажу. И будешь, может быть, сидеть на мягком пуфике и даже с чувством выполненного долга - и ощущать себя несчастным.
Поэтому снова сталкиваюсь с тем, что рано или поздно начинает раздражать в любом волосатом коллективе. Прекрасные собеседники, умные и смелые люди - они слишком легкомысленно относятся к тому, откуда берется хавка, даже когда живут с другими волосатыми, а, скажем, не дома с родителями. Для той малой активности в пополнении продовольствия - они слишком много едят, притом не считаясь с остальными. Они засиживаются у костра, встречают рассвет и, естественно, хавают - так, что на утро от еды остается лишь грязная кастрюля. Но они уже спят, и кто-то другой должен идти в город, пополнять запас хавки и воды. Москвичи отличаются какой-то особой изнеженностью, не позволяющей им ни напрячься для общей пользы, ни в чем-то отказать своим больным желудкам. Поэтому рано или поздно из-за хавки начинаются ссоры, еда просто расхищается. Ее неумеренно пожирают, когда она есть, и лениво ожидают ее появления, когда ее нет. Московские волосатые всегда нуждаются в няньках, особенно пионеры. Пользы от них практически никакой, зато приколов и претензий куча. Я не успеваю увидеть те вещи, которые приношу, хотя только и делаю, что бегаю в Коктебель за шесть километров. Они из экономии не покупают дорогие сигареты, а потом постоянно тащат и стреляют с фильтром. Очень вежливые и предупредительные поначалу, очень скоро они начинают вести себя излишне панибратски и оскорбляют ближних с непосредственностью детей. Молодые волосатые вообще преувеличивают отсутствие условностей в нашем кругу и в своем стремлении быть крутыми режут слух, как фальшивые скрипки.
 “...blind spoiled destestable children, pouting because... they can’t get... all... candy... they want”. Jack Kerouac, “Subterraneans”. (“Слепые избалованные малолетние дети, дующиеся потому... что не могут получить... все... конфеты, которые они жаждут”. Джек Керуак, “Люди подземелья”.) “...blind spoiled destestable children, pouting because... they can’t get... all... candy... they want”. Jack Kerouac, “Subterraneans”. (“Слепые избалованные малолетние дети, дующиеся потому... что не могут получить... все... конфеты, которые они жаждут”. Джек Керуак, “Люди подземелья”.)
Прекрасный день для шпионов и перебежчиков: туман над морем, густой как молоко, и чуть ли не на вытянутую руку все начинает расплываться...
Мы решали вопрос: если мы все равно солим воду для риса, нельзя ли взять уже соленую из моря - тогда проблема воды была бы серьезно решена. Эксперимент над ограниченным количеством хавки был неутешителен: есть полученный продукт не смогли даже самые голодные.
- Take the борщ, - говорит Толик Феодосийский, приехавший нас навестить. Он юн, прост и весел, и кажется человеком с абсолютно незамутненной кармой. Он дурачится как ребенок и легко изготовляет тусовке обед. Тут для нас всегда существует проблема: одни люди не умеют готовить, другие считают это для себя западло, третьи считают западло готовить постоянно и на всех (что, при нашей численности, утомительно).
Зато эти милые чайные разговоры, когда заранее признается, что твой собеседник замечательный человек, и все начинают обсуждать недостатки и причины дурных поступков других.
Сейчас начали перемалывать косточки Пете и обсуждать неумное поведение “взрослых”. Алиса с Шурупом видели здесь отклонение от света детства. Мы с Ритой считали детство временем беспросветного эгоизма, от которого человек освобождается с возрастом и посредством воспитания.
 Шуруп: Шуруп:
- Мне кажется, что большинство людей вообще не думает. В этом и причина.
Рита:
- Но ты согласен, что часто очень простые люди способны на очень хорошие поступки?
Шуруп засмеялся и согласился.
- Наоборот, - говорю я. - У простого человека могут быть более нормальные и гуманные реакции, чем у человека, имеющего свободное время, когда он все читает и оценивает идеи, и они перестают казаться ему верхом непогрешимости. От нормальных и естественных добродетелей он может перейти к увлечению гордым и эффектным грехом и даже видеть в этом какую-то честность и мужество, на которые не способен плебс. Культура может испортить человека, если у него слабый характер, например, чтение Ницше и Кастанеды...
Анжела рассказывает о своем факультете философии. Перед написанием курсовой о сельском хозяйстве Дании преподаватели предупредили ее, что в тексте необходимо минимум дважды упомянуть о социализме по материалам съезда и классикам, - и возмутились потом, что сельское хозяйство Дании в ее исполнении получилось похожим на наши колхозы. Почти довели ее до слез, разбирая на лекции Маркузе. У них он вышел еще глупее, чем у какого-то английского марксиста, писавшего, что Маркузе такой тупой, что может считать молодежь единственным революционным классом, а рабочих уже интегрированными в общество и неспособными на революцию. Марксист считал его лишь ревизионистом Маркса, ошибочно пытающимся приспособить Маркса для современного момента (чистая правда - не надо и пытаться)... И так вот унизив Маркузе, лектор вдруг заявил, что он теперь расскажет правду, и стал говорить вещи совершенно противоположные, например, как он видел Маркузе в Штатах в 69-ом году. Тогда советская делегация пришла на его лекцию в черных костюмах и галстуках, и вдруг появился Маркузе, в джинсах, взобрался на стол, что-то рассказал и всех поразил.
Я бросил учебу четыре года назад, но, вижу, здесь мало что изменилось. Даже на кафедре физкультуры семинар по поводу съезда.
Анжела хотела было предложить тему для курсовой о контркультуре на Западе, но не стала и пробовать, потому что работа должна была бы содержать в себе обязательную критику с марксистских позиций.
Когда она готовилась к экзаменам и читала “классиков”, то совершенно шизанулась и могла говорить только их языком и в их манере. Дело кончилось психиатром, который лечил ее гипнозом и в конце концов дал академ.
В унисон раздаются ритины признания, что универ отбил у нее охоту читать. В полгода они должны были пройти всю античную, потом всю средневековую литературу, в голове путались сюжеты, имена. А тут еще их штампы: “прогрессивный”, “реакционный”, “сочувствующий революции”, если не нашей, значит французской, или освободительной борьбе, или еще какой-нибудь хреноте.
Вечером за костром вспоминали забавные памятники совкового маразма. Алиса припомнила лозунг, увиденный, кажется, в Татарии: “Ленин тыг, Ленин дыг, Ленин тыг дыг дыг”.
Рита вспомнила два родных столичных лозунга: “Советские люди вечные строители коммунизма” и “Солдат - охраняй в бою родину, Мать твою”.
Шуруп рассказал, что видел при въезде в Москву по смоленскому шоссе: “Москва - столица мира”. И про то, что в районе Донбасса на субботнике висел плакат: “Все коммунисты - в шахту”. Пес, проезжая по Украине, узрел: “Ленин нам завещал: учиться, учиться и учиться. Л.И.Брежнев”. Я вспомнил рассказ Маркела, как на одной из веток московской электрички над покосившимся и полуразвалившимся сараем висел транспарант: “Простые советские люди повсюду творят чудеса”.
Базар не утихал. Анжела прочла поэму “Перента и бейбики”, слэнговый вариант вечной темы отцов и детей.
Мы с Псом совместно вспомнили любимые кошины стихи про трех герлиц:
Три герлицы под окном
Спичат поздно вечерком…
Пес продолжает:
Весна, хайратый торжествуя,
К Сайгону обновляет путь... и т.д.
Я пытаюсь сочинять и другие стихи:
Краски тайного замеса,
Круг священного порядка.
В покровительстве у Неба
Три брезентовых палатки.
В принципе, я согласен с мнением об ущербности, непоэтичности и т.д. “волосатых” стихов. Поэзия в волосатом кругу имеет утилитарное значение, как частушка у народа. Такое же значение имеет и искусство. Никто не будет заявлять: я, блин, поэт, или: я, блин, художник, хотя, может быть, ему и дадут такую кликуху за минимальные заслуги, - ничуть не нарушая равенство и взаимную ценность. Говоря: я, блин, поэт, ты как бы расписываешься, что для тебя есть идеи более важные, чем хипповые. Что ты на самом деле сраный карьерист, думающий заявить о себе через творчество и, что хуже всего, не в волосатом кругу. При этом почти каждый хиппарь - поэт, музыкант, художник, часто в одном лице.
Если волосатые выражают себя в каком-либо жанре, то, принимая жанр, они не утруждают себя принимать и законы этого жанра. В их руках любой жанр становится чем-то другим, и они считают это нормальным.
Даже если “жанр” - волосатость. Здесь так же нет законов и догм. Поэтому наивно говорить волосатому, что ты, мол, волосатый, значит, должен ночевать в парадняке, а не вписываться на флэт. Это все равно что сказать птице: ты должна летать и не садиться на землю. Система - это возможность жить, не ангажируя себя ни на какой подвиг, ни на какой труд, ни на выполнение любой задачи, связанной с ограничениями и лишним бременем. У Системы нет теории и нет идеала: она принципиально свободна от идеалов и теорий. Система - это терапия необязательностью и жизнедеятельность без цели и принуждения следовать каким-нибудь патентованным правилам.
Так мы проводим ночи. И Керуак в Лос-Анжелесе мечтает “...to show how abstract the life in the Talking Class to which we all belong...” (...показать абстрактность жизни Говорящего Класса, к которому мы все принадлежим...)
Слишком много совдепа вредно для здоровья, поэтому во мне они должны ценить оздоравливающее влияние Америки (пусть не реальной Америки, а “Америки” нашего внутреннего мифа, как Белозеро или Египет для раскольников). Я боюсь быть похожим на них, я боюсь, что они могут принять меня за своего - наивного или циничного обывателя, лишенного каких-либо дорогих и обременительных идеалов, чудовищно защищенного самим своим безразличием и потому способного голосовать за кого угодно, терпеть любую подлость и считать справедливым любой режим, при котором ему довелось жить.
На вершинах, в диком необжитом краю, где хранители гор задирают в небо свои циклопические профили, где двухколейные дороги на глазах исчезают и превращаются в две овечьих тропы, скачущие вверх по склону, когда красное солнце садится среди голубых волн вздыбленных горных цепей, - вдруг находишь в себе присутствие острого религиозного чувства, будто Творец еще не покинул эти пограничные миры, и Его дыхание еще лижет изгибы Его гигантских изваяний.
Поражают не скалы, не обрывы, не пики, но пластика гор, цвет, шершавая, ноздреватая кожа, мерцающая бороздами стремящихся вниз потоков и горизонтальной сеткой овечьих троп, меж которых растет чахлая шерстка горных трав.
Я понимаю, почему Волошин избрал местом своего “успокоения” вершину Енишара. Если идти на восток по горной лощине, Енишар вдруг превращается в удивительно правильную пирамиду с почти симметричными сторонами, вздымающуюся высоко в небо.
Было уже темно, когда с дороги нас ослепили фары и оглушил милицейский мегафон:
- Всем оставаться на месте! Проверка документов!
Меня словно током шибануло - от сильного сходства с прошлогодним винтиловом в Пицунде. Неужели опять этот пограничный бред, выселение, арест!..
И все же, если для нас эта перспектива была со знаком вопроса, то Коше спецприемник светил очень отчетливо: для начала у него не было этих самых документов. Не долго думая, расторопная Анжела предложила ему сканать за ее мужа, а про паспорт заявить, что находится на прописке. Коша стал поспешно учить свою новую фамилию и имя, а так же адрес и имя своего годовалого ребенка, оставленного в Москве.
Менты начали с львовских туристов, потом им попался Женя, потом наступил наш черед. Последним очередь дошла до Коши. Менты выслушали уверенную телегу Анжелы и попросили Кошу назвать свое имя и фамилию. Коша спокойно это сделал.
- А отчество? - спросил мент.
Наступила тревожная пауза. Мы напряглись, изо всех сил пытаясь подсказать ему как на уроке, но менты следили за нами зоркими недобрыми глазами.
- Ну, Эдуардович, - наконец говорит Коша уже торжествующему менту.
- Что же ты молчал? - спросили мы его потом. Он признался, что отчество из головы как ветром сдуло.
Менты заявили нам, что стоять здесь нельзя и мы должны сворачивать свои палатки.
 - Почему? - задаю я риторический вопрос. - Почему? - задаю я риторический вопрос.
- Потому что здесь погранзона, - лениво отвечает мент.
- И что, вот сейчас ночью мы будем собираться, а потом пойдем неизвестно куда ночевать - с детьми?
- Здесь есть кемпинг.
- Туда людей без машины не принимают, - говорю я совершенную правду.
- Есть турбаза.
- Там нет мест, - отвечает за меня Шуруп. Это и проверять не надо.
- Ну так снимите квартиру.
- У нас нет денег на это.
- Так чего вы сюда приехали?
- Как чего - пожить, отдохнуть, посмотреть на волошинские места, порисовать.
- Художники?
- Да.
- Ладно, сегодня ночуйте здесь, а завтра уезжайте. А то будут неприятности.
Завтра, естественно, мы никуда не уехали. И менты больше не появились, хоть мы их и ждали. Чувствовалась в этих ментах какая-то слабина: что не очень-то и хотят они нас арестовывать и выселять. Мы обсудили ситуацию и решили, что скорее всего они предпочли бы урегулировать вопрос деньгами. Но и денег у нас не было. Если бы они приехали опять, мы бы уже не сплоховали и скинулись бы на какой-нибудь презент, чтобы от нас отстали.
- Дадим им пару бутылок водки - будет нормально, - сказал Женя.
Большинство людей не хамят и не грубят на каждом шагу потому, что опасаются получить по мозгам. Вот и меня сегодня прямо перед домом Волошина чуть не замочила урла, толкающаяся на лодочной станции. Как у всякой урлы, их лексика была предельно лаконичной, компенсируясь богатым запасом матерной фени. Помимо известных выражений - для моего обозначения нападавшие использовали почему-то слово “бычок” - и все старались утащить к себе на станцию, куда меня совсем не тянуло. Скоро перешли к урловским приемчикам: “Ты чего, мне угрожаешь?” - пузырился молодой парень в майке и махал перед лицом ножницами. Они обещали сразу и постричь и закончить дело смертоубийством, о чем и свидетельствовали опасные полеты ножниц, движения корпусом и кулаками. Выродок с ножницами считал, что я позорю их город. Я ответил, что это они его позорят.
- Почему это мы позорим? - полюбопытствовал парень.
- Нарушаете закон гостеприимства.
Был бы это не такой урод, я бы добавил: “считавшийся у греков священным”.
Он посоветовал мне побыстрее исчезнуть из города, чтобы не получить пи...ы. Проходящая публика, впрочем, не мешала сделать это прямо теперь, так как меня по-прежнему крепко держали и их было шестеро. Урловские примочки лились как из рога изобилия, в основном крутясь вокруг волос и того, что неугодные обществу элементы должны быть уничтожены.
Я спросил, что это у них за общество такое? Низенький чернявый мэн наклонился, покривлялся и произнес какое-то странное название, состоящее из слов на “б...” и на “х...”. Парня с ножницами, который больше всех хамил и выпендривался, я спросил, сколько ему лет, и с позиции старшего начал учить жизни. Самый старший из них, с большим крестом под шеей, спросил у меня по-ментовски имя и фамилию, на что я поинтересовался его собственной. Тогда он спросил грубо - не поп ли я?
Следующий раунд был посвящен Москве. Узнав, откуда я, все тот же с крестом спросил - почему в таком виде?
 - А там так принято, - съязвил я. - А там так принято, - съязвил я.
- Умный что ли?
- Умный.
- Не видно.
- По вам тоже не скажешь.
- Это почему?
- Потому. Не зная, кто я, вы осмеливаетесь меня оскорблять.
- Кто же ты? - спросил с крестом. - Объясни.
- Пусть он меня сперва отпустит, - сказал я, имея в виду крепкого парня с угреватым лицом и в шапке, который держал меня за петлю для ремня. - Я не привык так разговаривать.
- Зато я привык, - ответил парень.
- Ну, вот когда ты будешь говорить, тогда и держись.
Разговор зашел в тупик.
- Ну, что, тебя тащить что ли, если ты своими ногами не хочешь? - спросил урел в шапке.
- Попробуй.
Он рванул. Я удержался, а на штанах что-то треснуло. Я почувствовал свободу и быстро зашагал от них прочь.
- Стой! - закричали они
- Хватит, поговорили! - отрезал я.
Преследовать меня они не стали.
А в магазине очередь за пивом, поэтому нельзя ничего купить. Хорошо, что какой-то полуголый человек, которому не продавали пиво, поставил меня вместо себя - почти перед прилавком.
А потом я зашел в книжный и не нашел ни одной художественной книги на русском языке.
 Происшествия бывают не со мной одним. Происшествия бывают не со мной одним.
Наутро Рита пошла в город позвонить и зацепить хавки. Я видел, как она стопанула проезжающий по дороге газик и уехала.
- Знаете, какой был со мной прикол! - объявила она, вернувшись. - Представляете, сажусь я в газик. Там мужик в майке. Я как ни в чем ни бывало начинаю с ним болтать по своей привычке, а потом гляжу случайно вниз - а у него ниже майки ничего нет. Я страшно перестремалась. Думала, сейчас увезет куда-нибудь, придется на ходу прыгать. Но виду не подаю, болтаю, как ни в чем ни бывало. Он, по-моему, даже хотел обратить мое внимание на свой туалет, а я делаю вид, что ничего не вижу. Так и довез меня до города, наверное, обломался.
- Повезло.
- Я тоже думаю. Могло быть хуже.
- Главное избрать верную тактику. Ты правильно сделала, что стала его убалтывать, - говорит Анжела.
- Это чисто спонтанно. Инстинкт.
Погода испортилась. Стал дуть изрядный “мистраль” с украинских степей.
Наша колония распадается. Хиппари сказали, что снимаются: сперва в Феодосию, потом в Керчь, оттуда на пароме в Тамань и дальше стопом в Пицунду, где останутся, может быть, до конца лета. Там теплее. Мы позавидовали и расстались.
Женя у поредевшего костра рассказывает про жизнь в Баку.
Я сказал, что в прошлом году видел ее со стороны, и она мне не понравилась. Он заверил, что все так и есть. Одно время в Баку не было даже спичек. Весь город искал эти спички, именовавшиеся теперь по мотивам “Кин-дза-дза” - “КЦ”.
Он кончил строительный, работает по близкой мне архитектурной специальности. Рассказывает, что родственник Алиева - главный архитектор Баку. Ни один проект не утверждается без внесения его имени в число авторов и без учета его замечаний.
Потом рассказывает про альпинизм, как чуть не умер в горах, пережравши с голодухи черной икры. И о том, что туристские карты намеренно испорчены. С этим он несколько раз сталкивался в своих путешествиях по Кавказу.
Потом - об асе Хергиани, ходившим в паре с Анищенко и разбившемся в 69-ом в Италии. Лучший советский альпинист - в начале 60-х, когда совдеп впервые стал платить валюту за участие наших альпинистов в международных соревнованиях по скалолазанию - поехал в Англию и обставил всех западных альпинистов. С тех пор и чуть ли не по сей день считается лучшим альпинистом в мире. Приехал в Англию с брезентовой палаткой, брезентовым рюкзаком, в галошах и поношенных штанах. Королева Англии вручила ему орден “Тигр скал”, который имеют всего человек десять в мире. Покоритель вершин 6-супер, самых сложных для восхождения. Одна такая - под Эльбрусом: четырехсотметровая нависающая стена ледника, покоренная лишь им. Сам Эльбрус не идет с ней по сложности ни в какое сравнение.
Он из сванов, особой свободолюбивой народности, живущей в труднодоступных горах и подчинившейся совдепу, как говорят, только в 37-ом году.
Чтобы улучшить свою экипировку, наши альпинисты выменивают ее у западников на титан. Те охотно меняются: у них титан страшно дорог и идет в основном на обувь и на крепления.
Я вспомнил про алтайское селение, где падают третьи ступени с Байконура и где этого титана, как грязи.
Львовцы тоже рассказывают что-то свое. Они оказались очень славными ребятами, с неплохим чувством юмора. Не попав ни в диссиденты, ни в хиппи - эта генерация людей уже не была овечье советской.
Почти пятнадцатичасовой дождь на всю ночь и весь день. Тяжелый опыт испытания подводной лодкой, в которую превращается одноместная палатка на трех человек, протекающая и задуваемая со всех сторон, несмотря на целлофан, пришпиленный сверху. Протекание началось по краям - через землю, постепенно расширяясь к центру палатки. Вещи набрасывались друг на друга в последовательности их промокания. Люди набрасывались друг на друга в последовательности уличения их в пренебрежении законами терпящих бедствие.
До трех часов дня дождь продержал нас почти безвылазно в палатке, здорово подсадив нервы и отравив отношения. Чтобы восстановить их и подбодрить Малыша, мы пели Моррисона, Hair, “Христа”. Рита даже пропела Gaudeamus igitur и шутливую песенку на французском.
В одну из коротких вылазок под дождь увидел полуголого босого человека, который стал просить у меня доску, чтобы согреться на приготовленном из нее костре. Вид его был так жалок, что я дал ее ему, хотя, по справедливости, распоряжаться ею мог только Женя, притащивший ее вчера с вершины Хамелеона, где она недавно составляла часть казенного забора.
Сама вероятность разжечь костер под дождем вызывала во мне сильное сомнение, пополам с состраданием к нему и жалостью к себе. В этом я нашел полное понимание с палаточным соседом снизу, мокрым, в промокшей пограничной панаме, который стал выпрашивать у меня бензин для разведения того же костра. Мне эта затея в тот момент показалась просто бредовой. Да и бензина у меня не было.
И когда после нашего пятнадцатичасового бедственного дрейфа мы поднялись наконец с последней сухой полоски нашей палатки и вылезли наружу - нас встретил ураганный ветер, на который мы повесили сушить наши пожитки.
Море, сильно отошедшее от берега, было офигительного цвета: по-речному желтое вдоль берега от сдутого в него песка, оно становилось после зеленым, потом опять желтым, а дальше угрожающе фиолетовым, с белыми, убегающими от берега, барашками пены. Спальники как привидения летали на ветках.
Ни одна советская сволочь из весьма потерявшей авантажность польской палатки не поинтересовалась, каково людям после дня дождей, насквозь промокшим, с детьми и т.д., безвыходно застрявшим в этой бухте?
 Появились львовцы и Женя, мокрые, истерзанные, но полные куражу развести костер из мокрых дров. Появились львовцы и Женя, мокрые, истерзанные, но полные куражу развести костер из мокрых дров.
Мы решили сматываться отсюда. Дождь висел в воздухе. Я отправил Риту с Малышом вперед налегке - поесть и забить место в автобусе в Феодосию. Собрался довольно быстро. Обменявшись адресами и пожеланиями с Женей и львовцами, я уже под дождем отправился в путь.
Немедленно по выходе из лагеря я угодил по колено в яму, полную воды и грязи. Дальше стало хуже. Дорога представляла из себя страшное зрелище раскисшей земли. Она не держала, предательски скользя из-под подошв, ноги уходили в нее по щиколотку, и я в миг изгваздался до колен. Я попробовал идти по траве, но она была щедро напоена водой, земля же под ней была столь же эфемерна. Извозившись по уши, навесив на кеды огромные плюхи грязи, я в конце концов разулся, очистил на скорую руку кеды, исхитрившись сделать это не снимая рюкзак, который некуда было положить, - и зашагал босиком по перевалам - до самого Коктебеля.
В Коктебеле я сходу залез по колено в море, долго мылся и стирался, бросив рюкзак на чистые прибрежные камешки.
Никого вокруг не было, накрапывал дождь.
Я выбросил уже совершенно негодные носки, надел мокрые кеды и отправился дальше - к столовой, где меня должны были встретить Рита с Малышом и где их не было, и о трудностях перехода которых я мог только догадываться. Здесь я съел подгоревшую и весьма несвеже выглядевшую запеканку, гарнир из риса и чай с кренделем. В середине трапезы появилась Рита. Она удивилась моей задержке. Они, оказывается, уже давно поели и сидят на автобусной остановке. Автобус будет через двадцать минут. Мне пришлось поторопиться.
По дороге на автобус мы встретили львовского Олега, который совершил бросок за нами - напрямик и всего за сорок минут, так что даже успел в город до закрытия магазинов...
Каково же было наше удивление, когда у Димы и Наташи встретили Володю Честного с бывшей принцевой женой - и еще одну волосатую чету из Москвы: одноногого человека, бывшего хиппаря, верно еще из Первой Системы, с какой-то шлюховатой на вид женой-парикмахершей.
Снова пошли разговоры и бесконечные чаи. Мы сохли, насыщались, наслаждаясь комфортом, и рассказывали о житье в Коктебеле. Честный - опять о военной кафедре и армейских порядках, когда проходил послеинститутские месячные сборы и испытание матерной жизнью. Оправдание ужасного в том, что, преодоленное, в руках мастера оно становится страшно смешным. В этом есть какая-то справедливость: никто не живет так ужасно и весело, как мы. Читали только что опубликованный “Котлован” - и смеялись опять.
В свое время экс-хиппи сильно квасил, что было принято в Первой Системе, и по этому случаю потерял под электричкой ногу. Свой протез он называет “мой стриптиз”.
- Ну, снимаю мой стриптиз, - говорит он, готовясь ко сну.
Его страшноватая жена-парикмахерша оказалась довольно добродушной и общительной бабой. Рассказала про дочь, которую недавно водили в мавзолей. Вернувшись, та сказала, что в мавзолее лежит Ленин, который ждет, когда ему вставят мозги обезьяны, и тогда он оживет и будет жить вечно. Боже избави!
Пришел Толик, починивший Рите сломавшееся кольцо, и одна феодосийская пара.
Все очень трезво, скромно и в культовом смысле - не круто. Кое-как разместились на ночь в прихожей впятером.
Три раза я совсем уезжал из Коктебеля, и три раза возвращался. Вчера я уехал в последний раз. Я выехал из Феодосии и уже через двадцать минут был на развилке на Коктебель и Старый Крым у “Насыперов” (поселок Насыпное). И там вдруг сдался. Очень скучно в три часа дня стоять на жаре в самом начале неизвестного и, в общем, не самого прикольного пути, тогда как поезд, на котором поедут Рита с Малышом, предоставляет мне исключительную возможность задарма проехать полторы тысячи километров и завтра быть в Москве. Я понял, что глупо манкировать таким случаем, и мой стопный дух резко угас. Я несколько раз вяло поднял руку, готовый проклясть водителя, пожелавшего остановиться. Затем я перешел дорогу и стал стопить обратно в Феодосию. Это мне быстро удалось. Драйвер-частник оказался словоохотлив. Сперва он поинтересовался, откуда я. Потом прошелся матерком по поводу попавшегося пьяного. Я подал реплику: “Воскресенье”. Он возразил: “Выборы”.
- Ах, да, - вспомнил я. - Хороший повод.
- Раньше мы так и выбирали. Кто же на выборы трезвым пойдет? Везде вино продавали, даже на избирательном участке в буфете. Законное дело. А теперь их х... кто выбирать станет. Теперь они сами с урнами приходят.
 - На дом, - съязвил я. - На дом, - съязвил я.
- На дом, - поддакнул он. - А-а, один х..., все равно 99 и 9 десятых будет.
- Да, - засмеялся я. - Именно. Без разницы.
Он тоже засмеялся.
- Это во Франции или в Америке выборы что-то значат.
- Конечно, - сказал я. - Такого даже в ЮАР нет.
- Да ну?
- У нас правом выбора реально обладают шесть процентов населения, - блещу я диссиденской эрудицией. - Это теперь, после Горбачева. А раньше хуже было.
Он опять смеется, словно я здорово его позабавил.
Пока рисовал на набережной особняк 14-го года - подошел наголо стриженный фотограф, по-видимому, из столицы. Попросил поснимать меня. Разрешил. Долго снимал, назвал пялящуюся на меня толпу дикарями - явно мне в угоду. Спросил, откуда я. Услышав ответ, предположил не из Суриковки ли?
Любопытно, что и драйвер грузовика под Насыпным тоже про меня все сразу понял: “Просто так ездишь? Пишешь, рисуешь, да?” Приятно, что тебя не считают за бандита или бродягу, и престиж волосатых довольно высок.
 В Крыму, судя по Феодосии и Коктебелю, очень любят писать на стенах и ходить в тиры. Телефонные автоматы и автобусы изрисованы и изкарябаны, словно выдающиеся исторические достопримечательности. И там, где в любом нормальном городе было бы кафе - устроены тиры. В Феодосии есть даже тир-вагон: автомашина с длинным прицепом, представляющим собой стрелковую шахту... В Крыму, судя по Феодосии и Коктебелю, очень любят писать на стенах и ходить в тиры. Телефонные автоматы и автобусы изрисованы и изкарябаны, словно выдающиеся исторические достопримечательности. И там, где в любом нормальном городе было бы кафе - устроены тиры. В Феодосии есть даже тир-вагон: автомашина с длинным прицепом, представляющим собой стрелковую шахту...
По дороге на вокзал мы сняли и увели с собой всю их тусовку “Под часами” во главе с Кислым - интересным, очень настоящим панком, который прямо на улице стал развлекать нас пантомимой, великолепно изображая не то олигофрена, не то разведчика, вызвав наши аплодисменты. Его двухцветный красно-зеленый галстук искрился коллекцией Лукичей, красных знамен, пионерских звездочек и т.д. Голова, как полагается, обесцвечена перекисью. Но волосатых в тусовке не было. Быть панком в Феодосии считается менее зазорным, чем быть хиппи. Кажется, многие просто не понимали, что делают со своей головой. Но, идя по главной улице, мы представляли грозное зрелище, не оставившее никого равнодушным.
На вокзале с Риты потребовали детский билет, и она понеслась по платформе в кассу. У меня билета вовсе не было, и я не сделал шагу, чтобы его приобрести.
Панки были с нами до самого отправления поезда. Войдя все вместе в вагон, мы так поразили проводницу, что, когда панки вышли без меня, этого никто не заметил.
Я ехал там, где и полагается ехать нищей русской интеллигенции - на третьей полке, как месяц назад я ехал из Питера. Прижался к стене и беззаботно сладко заснул, радуясь, как я это все славно придумал.
Утром меня схватили за ногу и как Гефеста спустили вниз. Ради несчастной премии за поимку безбилетника они были готовы буквально убить человека. Жирный бешеный начальник поезда взвинтил себя совершенно до озверелого состояния. Меня ссадили на Лозовой, в 110 километрах от Харькова и в стороне от трассы. Штраф и менты остались угрозой, но в поезде продолжали ехать Рита и Малыш, которых они запросто могли использовать как козлов отпущения.
 Благополучно не попавшись ментам, я сделал круг по станции и попытался выехать электричкой до Харькова. Она отправлялась буквально вот-вот, но стоила дорого и шла, самое печальное, три часа. Благополучно не попавшись ментам, я сделал круг по станции и попытался выехать электричкой до Харькова. Она отправлялась буквально вот-вот, но стоила дорого и шла, самое печальное, три часа.
Час я выбирался пехом из города и ничего не застопил. Вернулся: электричка уже ушла. Поездов нет и стоят двенадцать рублей в плацкарте. Хуже, что попался милиции. Одному не понравилось что-то в документах, другой стал выспрашивать, откуда и как попал в Лозовую. Тут я сдуру сказал, что прибыл 104-ым из Феодосии. Они могли слышать о высаженном безбилетнике. Менты мурыжили меня долго, все хотели увести с собой, проверять документы. Я забалтывал их и упирался. Внезапно они меня отпустили, чего я уже никак не ожидал, лишь пожелав, чтобы я немедленно исчез из Лозовой. Я был не против.
 В поисках междугороднего телефона прошел мимо комнаты начальника вокзала. В спину окрик: В поисках междугороднего телефона прошел мимо комнаты начальника вокзала. В спину окрик:
- Вы куда, молодой человек, чего вы там рыщете?
Вообразив, что он снова вызовет ментов, естественно, тех же самых, я кинулся вон с вокзала. Теперь мне безальтернативно оставалась лишь трасса.
Верхнелюбажская больница Фатежского района - последний аккорд в кошачьем концерте моих стопных приключений.
Я был неожиданно быстро подобран драйвером Юрой с азиатским акцентом под мемориалом Курской битвы, где я сидел и грелся у вечного огонька, размышляя, не остаться ли мне здесь на ночь. Небо заволокло тучами. Я озяб и устал, а вокруг уже смеркалось. И все же с помощью Юры я совершил хороший ночной трип и сильно улучшил свой стопный дневник.
Но у него же в машине я обнаружил у себя все признаки инфлюэнцы. Под дождем на дороге или в палатке я провел в это лето не один час. Дождь, который начался под Серпуховом, продолжился в Джанкое, преследовал меня от Судака до Коктебеля. В Тихой бухте он лил два последних дня с ураганной силой. И когда здесь под Курском на возвратном автостопе он нагнал меня снова - мое здоровье наконец треснуло.
Сперва это выразилось в кошмарной усталости и охватившей меня меланхолии, усугублявшейся мелким противным дождем, который беспрерывно лил за окном. Я уже представлял, как выхожу на дорогу, ищу в мокрой темноте место для ночлега, ставлю палатку... Потом пришел озноб, заболела голова, заныл живот. И наконец доползло до легких, заворочалось кирпичом. Начались зрительные и слуховые галлюцинации, напомнившие мне психоделический трип. Я боялся, что начну бредить и перепугаю водителя. Одну за одной - съел целую упаковку сульфадемитоксина, который всегда таскаю с собой.
Ехали медленно из-за тумана и дождя. Я последовательно надевал все теплое, что у меня было, но это не помогало.
Около одиннадцати мы наконец встали на ночлег, но вписать меня Юра не мог - в его КАМАЗе не было спального места. Я пытался объяснить свое состояние и убеждал в своей неприхотливости, то есть готовности спать внизу, между педалями. Но это не помогло, разбившись о его твердую уверенность в невозможности там спать.
Я поблагодарил и вышел из машины. Невдалеке стоял МАЗ или “татра”, в темноте не разобрать. Водитель еще не спал. Я сделал знак, он открыл дверь, и я повторил свою просьбу. Водитель попался добродушный, но у него тоже не было спального места.
- Что же тебе сидеть всю ночь?
Я был согласен и на сидеть, и все же решил по его совету поискать другую машину. Но другой машины не было, а я чувствовал себя все хуже.
Недалеко от стоянки тускло горели окна какого-то склада. Я отправился туда. Это оказалось что-то вроде небольшого цеха по переработке сена. Дюжина людей работала, несмотря на ночь, перекидывали сено из кучи в кучу - какие-то темные немолодые женщины в темных грязных халатах. Пробравшись между повозками с этим сеном я дерзко влез в самый эпицентр работы и повторил ту же просьбу. Начались расспросы: кто, что, почему? Но и после этого оказалось, что ночевать здесь нельзя, может быть пожар. Я сказал, что не курю и даже не имею спичек. Просто полежу где-нибудь в копне, если вы не против. Они направили меня к местному пожарнику, которого я нашел в полном одиночестве в огромном машинном зале. Здесь было тепло, и это место мне чертовски подходило. Но пожарник даже не захотел меня слушать. Нет, это завод, и быть здесь запрещено. Нажим на человечность и ссылки на болезнь не возымели действия.
- Иди в больницу, - сказал он. - Тут недалеко.
- Да кто меня сейчас примет, ночью! - возразил я.
- Примут. У них там ночное отделение есть. Постучишься, примут.
- Ну, куда я сейчас попрусь в больницу? Я бы здесь прилег, у меня с собой все есть, а рано утром я уйду.
- Нет, нельзя. Не положено.
- Да чего вы боитесь? Я вам паспорт дам.
- На кой мне твой паспорт!
Он взялся за телефон. Я гадал: звонит ли он в больницу или в менты? Но из звонка почему-то ничего не вышло.
- Иди в больницу.
- Да как я ее найду?
- Пошли, я тебе покажу.
А по дороге он все твердил про завод, про то, что он сам как на иголках...
На улице я заметил, что от него неслабо разит. Несмотря на то, что было “недалеко”, он полчаса водил меня по тропинкам и вывел опять на шоссе.
- Вон, - махнул он в темноту, - дорожка за знаком. Туда и иди. Будет одно здание трехэтажное, а потом второе. Это и есть больница.
Мне ничего не оставалось делать, я пересек шоссе и стал искать дорогу, которая оказалась просто грязной колеей, выводившей к большому трехэтажному сооружению. Больше никаких зданий я не видел. В темноте я разглядел сидящих на парапете людей. Они целовались. Я осмелился их потревожить вопросом: что это за здание?
 - Это школа. - Это школа.
- А где мне найти больницу?
- А вон туда, направо, по дороге. Там будет трехэтажное здание.
Я поблагодарил, пошел и нашел трехэтажное здание с какими-то прямыми корпусами и попытался войти. Но на мой стук никто не отозвался. Я обошел здание. Вновь заморосил дождь. Это оказалось заброшенным домом с настежь раскрытыми пустыми окнами.
Я хотел уже влезть вовнутрь и переночевать там. Пока даблился, увидел идущую парочку. Спросил, где больница? Они сперва растерялись, потом мужчина сказал:
- Вот по этой дороге и направо.
- Налево, - сказала женщина.
- Направо! - настаивал мужчина. - Ах, да, налево. Там увидите. У нее окна светятся.
Перелез забор и пошел, куда они указали. Какие-то мужики возились у распахнутых настежь дверей неживого кирпичного здания с трубой. Направо, конечно, никаких зданий. Зато налево среди деревьев довольно далеко пробивался свет. Я прошел мимо нескольких частных домов, в которых еще светились окна. Решил, что если откажут в больнице, то постучусь к добрым людям бедным замерзшим путником. (И они отправят меня в больницу или еще куда подальше.)
Больница была окружена стеной, и когда я попал во двор, был неприятно поражен сходством этой больницы с московской, где недавно лежала Рита. Внутри следовало ожидать столь же неприятный прием.
Дверь была открыта, и там горел свет. Я вошел в совершенно голый, если не считать четырех деревянных стульев, и пустой холл. Но за второй дверью, увешанной объявлениями, были слышны голоса. Я постучал, но не получил никакого ответа. Я рванул дверь и вошел.
Это была приемная комната со столом, шкафом и кушеткой, накрытой целлофаном. Здесь сидели две женщины: усатая и чернявая, оказавшаяся фельдшером, и молоденькая сестра. Обе возрились на меня круглыми глазами, словно на привидение.
- Я бы хотел, чтобы вы оставили меня на ночь. Я болен, у меня высокая температура.
- А почему мы должны вас оставлять? - спросила усатая.
- Но вы больница или что?
- Мы больница, а вот вы кто?
- Вам паспорт показать? Пожалуйста.
Начался прямо ментовской допрос: кто, куда, откуда, где работаю? Долго и внимательно врачи листали паспорт.
- Вы бы мне термометр дали. Паспорт можно посмотреть, пока я буду мерить.
Я еле держался на ногах и, не дожидаясь их приглашения, сел. Посмотрел на сестру. Она кивнула: мол, все фельдшер решает.
- Дойдем и до термометра, - сказала фельдшер, продолжая листать. - А взять мы вас не можем.
- Вы хоть температуру смеряйте.
Задав все “кто и что”, а также “почему и зачем” (зачем я к ним пришел, и что они могут вызвать милицию, и кто его знает, кто я такой, и что, вообще, у них трасса), она все же дала градусник. Села и снова стала рассуждать и задавать вопросы. Я-то чувствовал, что со мной, поэтому скоро сказал: “хватит”, вынул термометр, и, не глядя, отдал его фельдшерице. Фельдшерица взяла его, надела очки и так и этак стала крутить.
- Тридцать восемь, - сказала она. (Я ожидал гораздо большего.)
Лишь после этого она спросила, что болит? Я ответил, что голова, живот и легкие, предлагая им сделать вывод по собственному опыту. Фельдшерица сказала, что вызовет врача. Пусть он решает и смотрит.
 В ожидании врача я прилег на кушетку, подложив под голову куртку. Сами они мне этого не предложили. Врача не было минут сорок.
В ожидании врача я прилег на кушетку, подложив под голову куртку. Сами они мне этого не предложили. Врача не было минут сорок.
- На танцульках наверное, - усмехнулась сестричка.
Пришла женщина со стетоскопом, пожилая и полная. Процедура дознания началась снова. Я поделился предположением о воспалении легких, которое у меня уже случалось. Было заметно, что не верят, придираются к ответам, что-то подозревают (наркотскую ломку что ли?). Потом врач меня ощупала, посмотрела горло, дала две таблетки аспирина и сказала, чтобы я шел себе.
- То есть человека с температурой 38 вы выгоняете ночевать на улице? - поразился я.
- Ну, это не очень большая температура. Сейчас лето, не холодно.
За окном шел дождь.
Но они же дали мне две таблетки аспирина, оказали первую помощь, и теперь я могу спокойно отправиться в гостиницу - за десять километров.
- Как будто там меня возьмут, - возразил я.
- Возьмут, - настаивала врач.
- Как же, даже если вы не берете, хотя обязаны.
Ехать я должен обратно в сторону Курска, ночью, на несуществующих попутках.
- Попросите ГАИ, - говорят мне.
Но почему я должен просить гаишника, и с какой стати он будет мне помогать, если я просто болен? И зачем мне еще куда-то тащиться, когда я и сюда еле дошел?
Исчерпав все аргументы, я спросил их: знают ли они такого драматурга Олби? Они не знали.
- Ну так вот - у него есть пьеса про великую негритянскую певицу Бесси Смит, которая попала в аварию, и ее не приняли в больницу для белых. И она умерла.
Рассказ вызвал на лице врача некую задумчивость. Но у них не было коек, не было матрацев. Поставить кровать в коридор они не могут. Не могут и дать мне ночевать на полу, как я просил. Я сам предложил, что буду спать на этой кушетке, если не помешаю им. Врач готова была разрешить, но вмешалась фельдшерица:
- Где же тогда я буду спать?
Потом вроде нашлась и вторая кушетка.
- Согласен спать в вестибюле? - спросила врач.
- Я на все согласен, - ответил я. - Хоть на полу.
Выволокли кушетку в вестибюль и установили прямо перед предбанником. Здесь было гораздо холоднее, чем у врачей, но все равно лучше, чем на улице. Попытался поднять спинку кушетки, чтобы сделать из нее что-то вроде подушки. Она оказалась сломана.
Врачи скрылись в свой кабинет и долго запирались от меня. Свет продолжал гореть. Я распаковался, закутался в спальник, согрелся и уснул, мечтая только о том, чтобы завтра смог встать и убрести отсюда своими ногами.
Ночью я несколько раз просыпался. Проснувшись в последний раз - почувствовал, что мне стало лучше.
В шесть утра потный, вялый, но живой я вновь собрался, сходил в дабл, где была разбита раковина и вода текла непосредственно в уже переполненное ведро и растекалась по полу. Выпросил у врачей еще таблеток, которые мне щедро отсыпали, и пошел к трассе, прикидывая в уме шансы повторить вчерашний ночной путь. Но все обошлось: я с первой попытки выбрал верное направление.
Больше часу никто меня не брал. Я объяснял это себе тем, что рановато, рановато, водители еще не встали. Я тихо умирал на обочине, приветствуя приближение машины вставанием, поднимал ослабевшую руку и снова садился на рюкзак, как она проезжала. В глазах от света такая резь, что я даже плохо мог ее рассмотреть, ориентируясь более по звуку. Момент ее движения распадался на дискретные отрезки: то далеко, то уже близко. А вот уже и нету. Драйверы опасливо глядели на меня, словно на зачумленного.
Потом поехал, вяло и недалеко. Начались мои обычные мытарства. В начале одиннадцатого утра я был только под Орлом, сменив три машины. И вчера и сегодня меня преследует какой-то безмазовый стоп. Ждешь по часу, чтобы проехать двадцать километров. Я даже вывел некую статистику: берет одна из пятидесяти или больше машин. Водителей-интеллигентов почти нет, а возьмет ли простой пипл - это бабушка на двое сказала.
До Орла везли два местных “философа”. Сперва рассуждали об урожае: как косить, так дождь. Потом пошли о политике. Безапелляционно разобрались с заграницей: да они, западники, на нас молиться должны! Их от Гитлера спасли (и Чингисхана). А они войну хотят развязать. Рейган оружием торгует...
Два очень веселых драйвера из Питера окончательно исправили мой стопный дневник. Но зачем и они рассуждают о политике?! Для них Малюта Скуратов, Меншиков и Берия - люди одного порядка, освобождавшие в общем-то неплохие правительства от ответственности за перегибы. Вот, оказывается, в чем трагедия русского государства: плохие помощники.
Начав трип в таком фиговом состоянии, с приближением к Москве я заметил в моем самочувствии проблески. Словно конь, почуявший конюшню, я становился бодрее и веселее, хотя сутки назад собрался умирать, и к вечеру въехал в Москву почти здоровым человеком, не приняв за весь день вовнутрь ни крошки еды. Это было странное превращение, почти чудесное исцеление. Хорошая погода, близость цели и необходимость ехать вылечили меня. Я лишь чувствовал ужасную слабость, рюкзак казался неподъемным, хоть волоком его волоки. Со стороны я, наверное, выглядел патриотом, возвращающимся из фашистского застенка, или Сизифом, дотолкавшим свой камень, с которым ему запретили расстаться.
Свобода - вещь тяжелая. Но я уже не могу переучиться, сжегши за собой все мосты. Я уже не цветочный человек, украшающий скамейку своей целенаправленной беззаботностью. Я несу тяжелый горб за спиной, меня толкают, но я не слышу слов. Мне хочется уйти подальше от трассы, осесть в мирном домашнем болоте и там по-новому постигнуть Идею.
И я знаю, что впереди месяц-два, а потом отъевшись, наболтавшись, начитавшись, натусовавшись, я вновь почувствую зуд трассы, я вновь буду поднимать руку перед встречными колесами, узнавать и рассказывать истории, избрав новую точку стремления в нашей такой подходящей географии.
 И тогда Крым ворвется в мою безоружную память - готовым снимком, чьим-то стихотворением, рукоятью скифского лука. В нем будет и сладкое солнце, и бисер овечьих троп, и вечный ветер. А вокруг амфитеатром будут стоять вымазанные охрой вершины. И под ними будут играть актеры, смешные на своих котурнах-ходулях, но видимые ясно и издалека. И тогда Крым ворвется в мою безоружную память - готовым снимком, чьим-то стихотворением, рукоятью скифского лука. В нем будет и сладкое солнце, и бисер овечьих троп, и вечный ветер. А вокруг амфитеатром будут стоять вымазанные охрой вершины. И под ними будут играть актеры, смешные на своих котурнах-ходулях, но видимые ясно и издалека.
далее >>>
<<< На главную ponia1.narod.ru
|