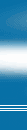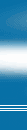Крепки как любовь объятия ночи. Как смерть крепка любовь ее. Пробуждение новое рождение, сансары кружения наваждение.
Я забил с утра патронташи психоделическими патронами. Я вооружен и совсем безопасен, мое измененное сознание восприимчиво
к переменчивой ряби бликов золотистых на глади воды зеленой. Я вдыхаю, трепетно, запах свежий реки, я ощущаю вибрирующую
дрожь палубы, слышу резкие, пронзительные крики сопровождающих меня чаек. Лицо мне брызгами мельчайшими ласкает ветер, и
пепел, с моих сигарет, сдувая, с убегающей белыми бурунами вдаль водой, мешает. «В бегстве, как таковом, всегда есть мотив
беды…». Я еду на Джиргак.
«Можешь наколоть мне ящерку?» – спросил я Steva. «Она должна быть совсем как живая, настоящая ящерица, на плече моем,
такую можешь сделать?»
Steve последнее время увлекся татуажем. Сам по всему телу изукрашенный разноцветно, теперь он мастерство оттачивает на
клиентов коже.
«Без проблем, Graf, сделаем тебе живую, машинку только привезти с работы надо».
«Я приеду на свадьбу вашу, в июле, может Anton, тоже выберется».
«Ладно, привет ему передавай».
Мудрый, добрый, скрытный Anton. Он убежал от всех нас, он спрятался на острове, водой, от мира, отгородившись. Речных
владений таинственный король, своей безмятежности хранитель. Два объевшиеся рыбой котенка – его необременительные
подданные. Он принимает радушно гостей приезжающих, как неизбежность, он оберегает ревниво уединение свое, мы не нужны
ему. И все же, третий год сажусь я с ним, под ивой великой, неподвижность воды созерцать. Я тоже полюбил этот
остров.
Медленно переваливается, через воды пространство, трамвайчик речной, к соседнему берегу, к следующей пристани боком
разворачиваясь. Нетерпеливо его подхода полуголая мальчишек толпа ожидает, большие автомобильные шины по краям причала
висящие, гирляндой смуглых тел облепив. Сейчас побегут они по тонкой крыше над палубой, над моей головой, с топотом,
босыми ногами отталкиваясь, прыгают в бурлящую отходящим кораблем воду. Ватаги поджидают нас на каждом причале. Иногда,
длинноногие маленькие герды-разбойницы, маслиновой молнией, на солнце, сверкнув, в лоно воды, в брызг ореоле, входят.
Ин-А-Гадда-Да-Вида, Бэби.
Я сижу на верхней, открытой, палубе пароходика. Синих скамеечек ряды заполнены наполовину. Красный рюкзак. Длинной
полосой тянется за кормой желто-зеленый берег. Блеклые на солнце перелески сменяются степями песчаными. Ржавые остовы
кораблей и невзрачные серенькие домишки поселков урбанизируют ландшафт. На остановках выходит часть пассажиров, на сходнях
с желающими дальше плыть встречаясь. Молодые капитана помощники ловко канатов концы отвязывают. Fred проходит по палубе
мимо меня, рассеянным взглядом лавочку свободную отыскивая. Да полно, что ты. Я не видел его много лет, я могу ошибаться…
но похож. Высокий, худой, светлые нечесаные волосы в длиннющий хвост небрежно стянуты. Борода длиннее была, это точно, но
расслабленная болтающаяся походка, но блаженная извиняющаяся улыбка на лице – «Freddie, это ты, что ли?» Большие ясные
юродивые глаза смотрят на меня. Я потрясен игрой Божественного Гроссмейстера. Я держу руки присевшего напротив меня и
внимательно всматривающегося Freda.
«Ты почувствуй, Fred», – дотрагиваюсь, – «три года я пытаюсь увидеть тебя в городе, а встречаю просто, врубись,
случайно, на, речного трамвайчика, палубе!» – выкладываюсь, ощущения изумления гамму, неуклюжими словами, передать
стараясь.
Извиняющиеся глаза. «Извини… а ты кто?» – голосом тихим.
«Мать твою, Freddie, а ведь ты крестный отец моей дочери от первого брака».
«Блин, Graf» говорит он и обнимает свою щеку рукой. Пальцами длинными.
«А ведь мы ругались с тобой».
«С кем я только не ругался, друг, я со всеми ругался, что нам до этого?» – легко отмахиваюсь, прошлое не заботит. Это
ошибка, – грустно говорит Гроссмейстер, – у него что-то есть на тебя. Увлеченный событий потоком искрящимся, не
слышу.
Fred знакомит меня с Наташей – черты лица болезненны, черные волосы спутаны. «Доставай коньяк наш, отметим старых
друзей встречу» подсказывает она, ошеломление наше подстегивая.
Без особой охоты отпиваю из баллона, крепкий, противно пахнущий, янтарного цвета, самогон, мне не хотелось бы свою
волну сбивать. Теперь его в огромных количествах пьют в Астрахани повсюду. Пьем и мы, абрикосами заедая. Мягко, неслышно,
передвигаются черные белые фигурки, неотвратимо делает ходы Гроссмейстера рука. Партия завершается, я слишком
безмятежен.
«А может нам с тобой на Джиргак поехать? Мы с Наташкой просто прогуляться хотели, рекой подышать. Anton там сейчас? По
зарослям долго идти придется, по острову, ты как, Натаха, выдержишь?»
«Надо будет, на шестнадцатом, спирта купить, с собой, Antonio угостим».
«Зачем нам спирт, Freddie, там конопля кругом растет, я вообще не пью».
«Да трава то и у меня есть, я без спирта не могу, я алкоголик».
Ясные и простые Freda глаза.
«А ты знаешь, Graf, не обижайся, у нас, в альпинистских тусовках, так говорили, – не забывай, что москвичи, тоже люди»
– Наташа вдруг мне, улыбаясь.
«Да нет, блядь, какие обиды, пиздец, что ты, Наташа, даже в голову не бери» – неожиданно, с пустяка, срываются нервы
мои. Если вам показалось, что я расслаблен, – вы ошиблись. Стелется за бортом вода, безмятежно ее течение. Когда хочется
плакать – не плачу.
Шестнадцатый пост. По узкому, упругому трапу выходим на пыльный берег. На пригорок по вытоптанной, широкой дороге.
Компактность домиков, песчаность проулочков. Сразу и берега оконечность, неширокий Воложки рукав от Джиргака нас отделяет.
Река огибает остров, с широкой Волгой, ненадолго, разлучаясь. Хозяин небольшой, привязанной к берегу лодки – старый
перевозчик Карим, на зеленом склоне, под деревьями, его друзья сидят. Поздоровавшись, подсаживаемся и мы, о переправе
поговорить. Казахи или калмыки, корсаки – на местном наречии, они пьют спирт, из баллона, в стакан разливая, Fred легко
вступает в беседу, Наташу приглашают на бревне присесть. Я ложусь на сыроватой прибрежной траве, на реку смотреть, я
повернулся к группе спиной, так мне лучше видно течение золотистое, я не хочу пить и разговаривать не хочу, я жду, когда
неторопливо перевезут меня, наверное, за Каримом уже пошел кто-то. Уходит и Fred, где спирт купить можно, у мужиков
разузнав. Здесь начало мира нового, времени замедленного, здесь нельзя спешить и некуда.
Зарослей кустарниковая путаница стеной на Джиргаке. Бессмысленных диких коров бродит здесь стадо, тропинки, хаотично
проламывая, и люди иногда. На другой острова части туристическая база раньше была, а теперь в этих домиках живут чеченцы
обособленно. Чехи – на местном наречии. Река здесь принадлежит им, и редкий осетр проплывет мимо. Менты куплены, и сети
ставить здесь больше не может никто, это чешский бизнес. Anton свой на Джиргаке, его знают, странного отшельника, все лето
проводит он на берегу, под старинной ивой плакучей, и осенью, от сезонных ветров укрываясь, на другую сторону острова
переходит, там у него тоже стоянка обжита, лишь на зиму в город возвращаясь. Старый хиппи, старый мудрец, беглец, он нашел
свою нишу, он крепок как камень на вершине горы и никуда больше не катится. А я, утомленный странник, я завидую ему. Я бы
тоже хотел успокоиться уже. Не быть. To be a rock and not to roll…
«Слышишь, брат, у нас не принято так. Ты с нами лежишь, ты повернись к нам, выпей с нами, расскажи, что ни
будь».
Условностями и привычками повязанные люди, опять я не вписался в ваши правила, но я и не стремился, «…я никак не могу
понять, почему другие люди не думают, как я. Выходит, я кругом не прав. Но не совсем же я не прав, не может быть, чтобы я
был совсем не прав». С готовой улыбкой оборачиваюсь и принимаю протянутый мне стакан с бесцветной жидкостью – «Ваше
здоровье!» Пью в два морщащихся глотка, предложенной редиской заедаю.
«Это из Москвы, мой старый друг приехал, вот Antonio навестить решили, на острове он сейчас, не знаете?» поддерживает
меня вернувшийся Freddie. Он наливает самогон, принесенный, в стакан освободившийся. Пьем по кругу, Наташу не
пропуская.
«Ну и как там у вас в Москве?»
«Здесь лучше». Сомнительной надежности комплимент. Действительно, не соизмеримо лучше, но они не поверят мне.
Take me Spanish Caravan, yes I know, you can.
Чистого песка отмелей обнаженные залысины, мертвых деревьев стволы из воды выступающие, предвкушение уединения –
Джиргак. Молодой, доброжелательный чеченец, на лодке моторной, на остров нас перевозит. Почему-то, с нами вместе один из
корсаков, самогон под деревом пивших, Алексей, кажется. Наверное, он знает, зачем. Мягкий, нетронутый песок, зарослей
тростника укрытие. Мое обнаженное тело солнечный ветер целует ласково. Вхожу в воды течение. С головой ныряю в мутную,
прохладную Волгу. Купаются Наташа с Fredom. На песке сидит Алексей. Обсыхая, присоединяемся мы к нему. Круг обходит бутыль
самогонная, косяк-самокрутку небрежно привычно сворачивает Fred, из газетной бумаги обрывка. Медленно спадает солнце к
кромке леса на соседнем берегу, воду ярким золотом подсвечивая. Мы уходим в сельву. В два человеческих роста вышиной
тростника заросли, тропинками, криво проломанными, с непроходимым лесом перемежаются. А в лесу, среди безумно хаотично
переплетенных ветвей деревьев, тропинок нет вообще. Безостановочно пригибаясь, ныряя, согнувшись низко, под протянутые
всюду ветви, задевая их рюкзаком, спотыкаясь, роняя шляпу, иду я, линии берега не удаляясь. Все разбрелись, Алексей далеко
вперед убежал, а Наташа, которой плохо, кажется, отстала, и Fred с ней. Идти приходится долго, но уже ближе к
стоянке Antonio, увереннее становится и тропа. Коровами в лесу скопыченная, на лугу травянисто волнующая. Остаются по
правую руку два озера продолговато вытянутые. Весной, когда разливается Волга широко, берега затопляя, заливает и озерца
эти, потом, с большой воды уходом, рыбу оставляя. Прошедшим летом ловили мы с Полковником щук, сетку поперек озера
протягивая. Теперь, подмытым, обрывистым берегом проходя, ровными рядами сосен тонких следую, мягким, чуть желтоватым
песком, пружиня приятно. Здесь моя стоянка была. Я угадываю смытые половодьем берега очертания. Вот песком гладко
занесенные очага кирпичи. Белые их бока прошлогодней копотью покрыты. Два дерева, латинской викторией раскинутые, место,
где палатка стояла, хранят. Вот гвоздик, на котором шляпа и бандана висели, и полочка меж ветвей столового дерева
укреплена незыблемо. И поваленный дерева ствол – спинка кресла. Приятно вернуться домой после долгого отсутствия. Балкон,
корнями змеистыми, упавшего на песок дерева, поддерживаемый. Ступеньками уступами на пляж спуск. Вода не сошла еще, и он
выглядит неухожено – изрытая коровами земля с жестко торчащими тростинками. Чуть дальше по берегу сменяются песок –
растительностью, и деревья – пространством распахнутым. Травянистой тропинкой, по зеленому косогору, приближаюсь к иве
великой, привольно просторно, раскинувшейся. Но нет под деревом хозяина, заброшенно стоит столик под шатром плакучих
ветвей, лавочка вкопанная пуста еще. Устало приваливаю я рюкзак к серому, крепкому, необхватному ивы стволу. Пусты
маленького очага кирпичи, полочки для посуды, жерди вкопанные – пусты. Гаснет солнечный шар, пламенем темно-бордовым, за
рекой. Безмятежно воды течение.
Перевернутым изображением появляется Алексей. Я, навзничь, на застеленной пенке раскинувшись, травинку жуя, в бездонное
синеющее небо смотрю.
«А где Натаха с Fredom?» говорит изображение.
«А они подойдут сейчас, Наташа отстала».
«Я там договорился» приседает, на корточках, Алексей, «сейчас рыбу пойду принесу, а вы тут, пока, костер
разожгите».
«Antonio нет, ночевать как будете?»
«У меня палатка с собой, мешок спальный, поместимся, я думаю».
«Ладно, я вернусь».
Уходит над откосом по тропинке в сторону серых домиков небольших. Там Ваха с чеченцами
живет. Мирные люди, на самом деле.
Приходят Наташа с Fredom, Наташе худо, она пьяна и измучена. Она в панике.
«Слушай Fred» ноет она, «у нас самогон кончается, блин, у нас вся ночь впереди, надо идти обратно, на Шестнадцатом
купить, Fre-ed».
Я, идиотскою просветленностью ослепший, может быть и нечуток немного, не выражаю сочувствия своего, пожалуй, свысока не
понимаю.
«Тут, Алексей рыбу принести обещал, а я пойду, пока светло, травы нарву, хотите, костер сделайте».
По зеленой низине, неизвестной лопухастой порослью заросшей, обхожу домиков серость. Сразу попадаются на глаза
тоненькие стрелочки канабиса, в небо устремленные, одинокие торчки и кустиками. Ничего пока не трогаю, последний заборчик
миную и сарай ветхий заброшенный за ним. Здесь пряная, сладко-густая, запаха густота принимает меня, психоделические
заросли кусты сладострастно нетерпеливо раздвигаются. Сарая, теплом прогретого, постройкой, от глаз нескромных, укрытый,
обрываю я сочные, масляно налитые, макушечки. Конопля изобилует. Маленькие низенькие, на открытых местах солнцем
прокаленные, с мелкими острыми листочками, «злые», растения, с густыми, выше роста, сочно зелеными кустами развесистыми
перемежаются. Неторопливо пополняется мой пакет, на пальцах коричневый, вкусно мягко пахнущий налет – это масла брызги,
гашиш. За ним я завтра приду, солнце село. Очаровывает благоухание, не оторвешься уходить. Вечерней сыростью тропинка
полнится. На берегу, под ивой, костер разожгли, фигурки человеческие передвигаются. Светло серым холодом Волга
окрасилась.
В лагере пьют самогон, печеньем абрикосовым заедая. Алексей привел нового гостя. Долговязый, облизанный парень, в
очках, сидит на стол облокотясь. На огне, меж двух, очага кирпичей, потрескивающем, большая рыбина в кастрюле, пенистой
водой, под крышкой, булькает.
«Я вам, короче, кастрюлю принес» говорит Облизанный, «ребята уезжают завтра, а ты потом, помоешь, принесешь тогда».
«Давай вот здесь поставим палатку, под деревом» говорит Fred.
«Давай, Олег, присаживайся» говорит Алексей, «выпьем за знакомство».
Я не хочу больше пить, мне вообще не нравится происходящее, и указания неприятны мне, я не ваш, не свой, чужой, я скоро
умру. Я не враг вам и не друг, а добрым попутчиком быть готов, давайте попробуем гармонию, листики, из моего пакета,
подсохнут над огнем и почувствовать мир мы смогли бы сегодня.
«Вот здесь поставим палатку, хорошо? Давай я помогу тебе».
«Freddie…. Давай договоримся…. Я ставлю свою палатку там, где хочу, ладно?»
Я опять нервничаю, это плохо, плохо. Странно смотрит он на меня.
«Давай отойдем в кусты с тобой» говорит Облизанный Наташе, «я там тебе все объясню».
«Нехорошо ты себя ведешь друг, ты у нас в гостях сидишь, не трогай девушку» мягко просит Fred.
«Это вы в гостях, это наш остров» смеется Облизанный.
Молчит Алексей, рыбу кушая. Вот гадость то. Диссонансы.
«Налей мне водки, Олег», на боку, возле импровизированной трапезы полулежа.
«А налей себе сам, Алексей, вот она стоит, какие проблемы?»
Опять я не прав, кажется. Растерялся он даже.
«У нас не принято так, себе самому наливать».
«А у нас так принято – каждый делает то, что хочет, извини».
Резки и злы моего голоса интонации, где же мой покой, о Боже…
Быстро высохла трава, нарезанная, на крышке кастрюльной, курим кругом молчаливым, свои думы думая. Нет
гармонии.
«Ты на меня не обиделся, Олег?» – косяк принимая.
«Нет, что ты, Алексей, какие обиды, это я, наверное, не по делу выступил».
На непонимание обреченным, договориться в попытках тщетным…
«…пронзило ощущение зыбкости, неустойчивости, полнейшей необоснованности… сегодняшней… позиции… близость
непредсказуемых перемен».
Достаточно полная, на чистом черном небе, луна, дорогой серебра на бархатной живой воде. Светлая ночь. Под деревом, в
свечении серебристом, поставил я палатку шатром темно зеленым. Ушли гости, мерцают лишь жаркие угли бордовые в синей
прозрачности. Комаров не так много сегодня, легкий, рекой пахнущий, ветерок, сдувает с открытого берега разбойников
ночных. Легли спать Наташа с Fredom, я один. Сумбурный день был тяжел, но теперь я один, и мне никуда больше не надо идти,
здесь центр мира, я обязательно успокоюсь, обязательно. Завтра или послезавтра или еще в последующие дни, я не буду их
считать. Мне необходимо спокойствие. «Господи, как трудно мне было удержаться на поверхности, за что бы я ни
ухватился!»
Постанывает во сне, тесно к Fredy прижавшаяся Наташа. Я отдал им свой легкий мешок спальный, и курткой укрывшись, на
пенке лег. Холодная ночь. Тихая ночь. Густой запах спиртного перегара в палатке. Медленно опускается сон. «Все равно все
кончается слезами». «Сон есть смерть, все есть смерть».
«Я всего лишь бестолковый странник в ненужной возне с чужими людьми вдали от всего, что меня, когда-либо,
интересовало». Медленный тихий светлеет рассвет, туманным оранжевым светом реку озаряя, и я встречаю его на берегу,
в
День первый.
В синих, старых, по колено, шортах, вхожу в реку. Удивительно, но не могу передать словами вкус воды во рту, по лицу и
рукам мягко обтекающей. Какая она. Я наполнил водой баллон пустой от спирта вчерашнего. На косе берега, светлой рекой
гладко приглаженной, дрова хворост голыши водой убеленные. Я и их собираю, босыми ногами в податливо влажный песок
впечатываясь. Свежий ветерок поддувает искорками утреннего костра горящего, поставил на кирпичи котелок с водой, качнул
чуть, и шипит капля, пролитая, на камне накаленном. Пока занялся огонь моей водой, целуя нежно чувственно, танцуя языками
огненными танцы страстные вокруг томно покорно холодной, но начинающей постепенно закипать, я ухожу тропинкой мягкой. На
песке беловатом, в лесу сосновом, много веток, сухих, найду, в ожидании чая. С деревьев, нижнего яруса сухоту, обламываю.
Сосны тонкие, рядами стройными, уютность затененного песка оберегают. Сладкий, черный, горячий чай с рыбой вчерашней,
нежное белое мясо в руках ломтями. Первая солнечного света истома окрашивает реку ярко, набирает силы день. Спутанные
светлые волосы Freda показываются в проеме солнцем освещенной палатки. Он вылезает, ногами босыми, на траву и,
изламываясь, потягиваясь, зевая, чихает приветственно.
«Охи, елки, я замерз, Graf» – лукаво голову склонив, щурится. «Есть у тебя чай горячий?»
«Доброе утро, Freddie, иди сюда к огню, и чай горячий. Посмотри как прекрасно. Я вот думаю, не искупаться ли бы?»
Fred на корточках сидя, горячую кружку двумя руками обняв, реку взглядом обхватил.
«Ой, блин, ребята» хриплый истощенно голос Наташи, «налейте выпить то мне».
Она и в самом деле нехорошо выглядит под солнцем сквозь длинные плети ивы пробивающем. Бледно лицо в черных волос
сплетении.
«Иди к нам Наташа, у нас водки нету, но вот чай свежий, горячий, с сахаром, иди и попей».
«Иди попей Натаха». Fred, безнадежно голову опустив, привычными движениями пальцев самокрутку в газетный листок
сворачивает.
«Ловко у тебя получается, Freddie, я так не умею, я в папиросы больше» – привычно гильзу потроша.
«Да, какая разница. Так проще» – языком полоску на косяке проводя.
«Блин, Fred, как мне хреново, а точно у нас ничего выпить не осталось? может к этим сходить, к Вахе?»
«Не, Натаха, здесь не продает никто, это только на Шестнадцатый идти надо» выпускает Fred сдерживаемую дыма струю, «ну,
с добрым утром, господа».
Забитым до отказа штакетом, принимаю я тост.
Наташу выворачивает приступами рвоты на берегу.
«Блин, давай пойдем уже на Шестнадцатый, Fred, у нас деньги остались еще?».
Почему-то я чувствую себя неловко, не знаю… откуда же неловкость?
«Сейчас пойдем Натаха, посидим еще, смотри утро, какое, сейчас солнышко пригреет».
«Да - а, а потом по жаре, по этим кустам, тащиться будем».
Я хочу остаться один, мне неприятно, пусть едут. Жаль.
Я прошу у Freda адрес и телефон, обещаю встретиться с ним в городе, приглашаю их на свадьбу девятого июля, прощаемся,
они уходят, я остаюсь, я люблю их.
Иду купаться. Зеленая прохладная вода, солнцем подсвеченная, меня охватывает, лаская тело струисто.
В стороне от дерева, длинными ветвистыми плетями, на дуновениях воздуха теплых, шелестящего, на пригретой солнцем
поляне, расстелил спальник. Обхожу иву почтительно, ладонью, седой морщинистой коры, осторожно касаясь, во владение
вступая. В расщепленном старостью стволе остатки хозяйства Antonio – сеть рваная и штаны старые и лески толстой мотки и
сеточка металлическая, я прошедшим летом оставил – шалу пробивать. Блесна поржавелая в чешуйку толстой коры воткнута.
Голые, солнцем и водой выбеленные, причудливо изогнутые коряги территорию ограждают, растопырившись, – от коров заслон.
Марево, шорох, тишина, тишина. На мысу, возле домиков, возле лодок, чехов фигурки копошатся, – свои дела рыбные
устраивают. «Я же знай, слонялся да грезил». Дремать попробовал на пригреве, мелкие капли с ивы кропят, плачет дерево,
ласковый ветерок солнечными пятнами играет, смеясь. Странно, пусто, непривычно – одиночество, а делать что? Пробиваться на
другую сторону, вот именно. To the other side.
И масляно ложится на ладони пряно пахнущий коричневый слой. Жаркая, накаленная солнцем трава, укрывает меня от мира
враждебности. В сплетении кустов, запутавшись, обнимаю я руками пышные стебли, обтираю, обмациваю тугие макушки. Масло.
Другая сторона реальности в моих руках. Вернувшись к дереву тропой жаркой, снимаю с ладоней, на расстеленную газету,
катышки коричневые, слепляю в шарик и опять, на кусочки, ломаю. С табаком, смешав, курю. Плывущий удар. Теперь могу лежать
спокойно, на блики светлые реки смотреть…. Постоянно и бесконечно течение, неизменности залог… и я хотел бы в вечность…,
чтобы не бриться по утрам… заебала повторяемость. А вот, застыть в красоте, в янтаре, водой стекая вечно… янтарный
чужестранец, разбрасыватель жемчуга, мертвый солдатик неигрушечной войны…, молочная река и кисельные берега, но поесть все
же надо бы, солнце пересекло зенит, рыба в кастрюле лежит.
И я доел ее задумчиво, и тер песком кастрюлю на берегу, в воде. Я отчистил от копоти блестящие бока, отнесу ее, и
забуду, ничто не должно связывать меня, странные привязанности. Желания-страдания. Страстные обязанности. Не хочу ничего.
А вот соли хочу. Хозяйство свое, перебирая, соли недостаток обнаружил, вот заодно и спрошу у Вахи, запасы пополню. И пошел
по тропе, берегом желтым и зеленым, песок и трава, мимо тополей группы, к домикам маленьким, солнцем залитым. Пусто у
лодок, рыболовный промысел с наступлением темноты начнется. На стук в дверь, отозвалась полная женщина в длинной
юбке.
«Вот, день добрый, кастрюлю я принес, кому бы отдать?»
«А давай мне сюда».
«И соли можно у вас попросить, немного?»
«А вот в тот дом зайди, спроси».
В доме напротив меня приглашают зайти, сам Ваха, пожилой, невысокий хозяин, за стол сесть предлагает.
«Чай попьешь? Тебя как зовут?»
«Попью, спасибо, я Олег».
«Надира, чаю принеси нам!» – повелительно в глубину дома зовет.
Еще одна женщина молчаливо приносит чашки и чайник горячий и печенье на блюдце. Уютно на веранде, светло.
«Что, Antonio нет, еще не приехал?»
«Нет, я один».
«Я помню тебя, ты в прошлом году здесь был».
«Да, мне нравится здесь. Там, у Antonio, сетки-телевизоры были, давал мне ставить, я думал он сам здесь уже, где хранит
их, не знаете? Я бы рыбы поел, если вы мне еще соли дадите».
«А сетки его у нас и лежат, там, на берегу, под деревом, вот Мустафа тебе покажет потом, выберешь себе. Anton должен
подъехать на днях, только недавно, вот, вода сошла. С рыбой плохо совсем, нет рыбы. Сыновья вон мотаются бестолку, бензин
только жгут. Ну, себе на уху то ты поймаешь мелочевку»
«Детей не стал брать на этот раз?»
«Нет, они с мамой, дома».
«Хорошие дети у тебя. На, вот, соли возьми, пакетик, больше ничего не надо?»
«Нет, спасибо, Ваха, я рад, что сети есть, голодный не останусь».
Отводит меня к тополю высокому Мустафа, и там под корягой большой, укромно, рыболовные снасти свалены, вот удача!
Разбираюсь, выбираю себе сетки две, смотрю на целостность. Треугольная сетка, с железным прутом в нижней части, для груза,
– «телевизор», вот славно как, рыба на завтрак будет у меня. Вот славно.
Домой возвращаюсь медленно. На берегу, оставив сетки, до вечера, раздевшись, с водой сливаюсь в экстазе мгновенном.
Ныряю, глаза закрыв. Чистой реки течение, легкого времени мгновение. Голый король на песке танцующий солнечные танцы
восторженно. Не одеваясь, мокрое тело, горячими лучами лаская, разжигаю костер в очаге. На объем риса, три чашки воды, и
масла золотистого, и дыма древесного – ужин королевский. Чай, сахар, и хлеб – пару батонов квадратных я захватил из
города, что мне еще надо? Я господин. В янтаре застыть. С косяком, на пригорке над рекой, возлежа, медленное, сходящее к
закату солнце, провожаю. О, светлый Ра, благословенен будь, ящерица, ничком припавшая, славит тебя.
Еще один, вечерний, выход в поля конопляные, принесенную в пакете траву сырую расстилаю на газетном листе, в расщелине
ивы, на просушку медленную. Веревки длинные, на берегу, среди старых снастей останков подобранные, к сеткам своим
привязываю, баллоны пустые тоже, для равновесия. В уже прохладную, темнеющую реку, по горло, заходя, опускаю на дно
конструкцию. Две сетки, по сторонам бухты. Ловись рыбка большая и маленькая. Бегу к костру греться. Тихая и черная
приходит ночь, а я не прочь, я один господин. Зашумели на реке лодки моторные, черные тени луной серебреные – чехи
отправились устанавливать сети, соберут на рассвете. Мерцание огня догорающего на стенах палатки, а я внутри, в спальном
мешке, в сладком дыму, уютно и мирно. Тяжело бьется рыба в воде, глухие всплески-удары в звенящей тишине, подарок
мне…
День второй.
Утро оказывается прохладным, небо пеленой затянуто. На прибрежном сыром песке мягко отпечатываются ступни босые.
Умываюсь и чищу зубы, в реке стоя. Не люблю я вообще просыпаться, новые дни не люблю, но это лучший вариант, здесь бы я
мог жить. За веревку вытягиваю сетки на берег – три рыбины мой улов, неплохо. Тут же, на берегу, на доске, чищу. Головы в
воду кидаю, крикливым чайкам кружащим. Потроха туда же. Чешую сняв, и в реке рыбу промыв, наверх к очагу отношу. Маленький
костерок дымком по земле стелет. На крышке котелка – сковородке, масло, раскалив, жарю. Скворчит рыбина, потрескивает,
запахами дразнит. Рядышком, на кирпичах, на огне, котелочек с волжской водой для чая пристраиваю. Не бывает завтрака
вкуснее. Кстати, тоже не понимал никогда, как мы пьем эту воду, из реки. Ведь, не один человек в нее писает, пока она
через всю страну течет. Но это так, к слову. Fred, я видел, просто сырую пьет.
По влажной, пасмурной, тропе, в поля ухожу – перспективу менять. Тяжел первый удар масляный. Ноги ослабевают, и желудок
реагирует. Лечь удобно, реку видеть необходимо. Это дня начало, видеть и чувствовать возможности новые. И не то, чтобы я
стремился выжить, но это лучшая попытка постигнуть. Поэтому они так и боятся. Сделали жупел, ах, наркотики, ах, здоровье
нации, миллионы тратят на борьбу, а почему? Да не подвластен им человек с сознанием измененным, не играет по их правилам,
чужой он, ходы не просчитаны. Как же им не нервничать, это крах всей системы, тотальное освобождение, кто же воевать то
будет? Там, типа, нефть, власть, Майами Бич, дача для Чубайса? А я лежу спокойно и в небо облачное смотрю, ах, трагедия,
пешка вышла из строя, угроза системе, где же наша машина карательная, где? В пизде.
…«Ну, как ты здесь? Не замерз?»
Вздрогнул я, не ожидал никого. Приподнялся, смотрю бессознательно. А это Облизанный появился вдруг, смотрит на меня,
улыбаясь сахарно.
«Ты меня как сейчас назвал?» – враждебно встречаю не расслышав.
«Как назвал? Про дела спросил».
«А… нормально… извини» – в себя прихожу, «мне послышалось просто…»
«Чаю будешь пить? горячий у меня» – вину загладить, неловко получилось.
«А, да нет, спасибо» – обиделся все же Облизанный.
«Я кастрюлю отнес уже, вымыл».
«Ну, нормально все у тебя, в порядке?»
«Да-а, вроде…».
«Ну, я зайду еще».
Да на хуй ты нужен, плесень. Вот встревожил, собака, так лежал я мирно.
Встал я совсем, стою, с мыслями собираюсь. Гроза будет, похоже, громоздятся тучи на берегу противоположном. Но, правда,
и ему несладко, с измененным сознанием то, власть вся у них, сила, деньги – бумажки нарисованные, Ламборджини Диабло,
фондовые рынки, а что же мне то делать? Пойду по берегу гулять.
Ногами черпая, вдоль пляжей, по воде, босиком. Стволы деревьев мертвые, половодьем убитые. Казалось бы, уход в сторону
духа, от рынков, возможен, но тут вообще на ощупь. Терра Инкогнита. Монопольными властителями вопросов духовных различные
организации себя объявили, церкви, типа. И ведь, что характерно, каждая утверждает о собственной безапелляционности, если
я в словах не запутался. Надо курнуть уже. Или, говорят, ты принимаешь наши правила игры на спасение, или как хочешь, но
мы тебя предупредили. Не надо меня пугать, мать вашу, не надо. Покажите мне, лучше, вашу любовь, я нуждаюсь в любви. All
you need is love. Поднимаюсь к своей старой стоянке. Здесь каждый штрих щемящей ностальгией исполнен. Здесь, на песке
мягком, строили города дети мои, плоть от плоти. Я не могу им помочь, я сам беспомощен. «Дети революционеров всех
направлений… самые несчастные дети». Гильзу-папиросу забиваю полную. Как они там, в Европе, без папирос? Впрочем, как мы
здесь, без Амстердама?
Громыхает раскатами за рекой, почернело небо, а здесь тихо, тучи мимо Джиргака ходят всегда, такой вот котлован. Anton
знал, где жить. Но почему же я не знаю? Стройными рядами к счастью идут колонны, маршируя, и улыбки на лицах, сладкие или
оскаленные. И я ведь пытался пристроиться, но был смешон. Да и в ногу не попадал никогда. Почему я не могу быть рядом с
вами в образе капризного маленького мальчика, я такой и есть. Они неплохие люди, просто мы не понимаем друг друга. «Не
хочется уже больше ни на что смотреть, ничем заниматься, а только лишь хочется закрыть лицо руками и растечься, растечься
в тоске по всему человечеству».
Небо темно, кажется ночь. У костра под деревом пытаюсь записать в тетрадку свои размышления. Может быть, получится
книга. Моррисон поэт, Леннон – мудак, а я писатель. Я вам скажу, что в православной традиции неправильно – идея личного,
собственного спасения – это неверно. Это отъединяет, ожесточает исповедающих людей. Ты хочешь один идти через эту
пропасть, равновесие, шатко поддерживая… иди. Я не хочу.
Ослепительные ветвистые молнии, извиваясь, сверкают змеисто за рекой. Глухой раскатистый гул. Грозы запах свежий.
Грустная печаль. Яркими огнями освещенные, музыкой играя, огромные белые теплоходы проходят мимо, устремлено уверено.
Жизни хозяева.
Тяжелая ночь. Темная ночь. Мечусь в замкнутости палатки без сна, косяки, при свете фонаря, заколачиваю. «…есть мысли,
которые нельзя передумывать слишком часто – больше чем миллион раз. Потом эту мысль уже не продумываешь, она просто кружит
по какой-то вялой окружности без центра, не осознавая, что это замкнутый круг».
«…до конца ничего довести нельзя, потому что неизвестно, где он…».
День третий.
Сегодняшний улов – две рыбы. Жарю их, у костра зябко. Небо затянуто и серо. Дует ветер порывами. В поля пошел сумрачно,
масло на ладони, ослабевающий тело, высвобождающий дух приход. На самом деле я не знаю, что делать. Вообще, глобально, что
делать? Гамлет долбанный. Будь, куда ты денешься. «…было, что-то еще… чего он полностью никогда не поймет – какая-то роль,
что ли, которую он должен доиграть до конца. Точно некое высшее существо приказывает ему перебегать от окопа к окопу в
войне, в которой он не собирался участвовать, но которая настигает его повсюду…».
Бреду по берегу. Должен же я решить эти проклятые вопросы. Почему не сейчас? Я не чувствую себя спокойно, нет. Как же
получается у вас жить, не думая? Раньше мне тоже казалось все простым и понятным. Революция, свобода, любовь, дорога,
запрещается запрещать, и спасение обусловлено, безусловно, ведь я честен, и никому не желаю зла. «…что меняется оттого,
что я все знаю, все предвижу? Всю жизнь свою я не могу заставить себя называть подлеца честным человеком. И думаю, что
лучше совсем не жить, если нельзя говорить с людьми вовсе или говорить противоположное тому, что думаешь…. Надо только
лгать – и им, и самому себе, и это – невыносимо трудно, гораздо труднее, чем говорить правду. Что толку, если своего
характера, своего поведения я изменить не могу? Зачем же мне этот проклятый опыт?». Оглянись назад, оглянись…. И оставили
они домы свои, оставили все, что имели, в том невыносимо реальном, отвратительно грубом, уродливом мире, как прекрасные
рыцари, некогда, отправились на поиски Святого Грааля, в путь неизведанный.
«How does it feel
How does it feel
To be without a home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?» – пели прекрасные рыцари, братья мои, в безвестности, на дорогах, камнями перекатными. Пели на
карнавальных улочках Хайт-Эшбери; на Мексиканских дорогах, пейотным откровением манящих; на неигрушечных баррикадах
Латинского квартала; на ложах бархатных оперного Одеона, ногами босыми; на туманных, от слезоточивого газа, улицах Чикаго;
на бессонных, водой залитых, Вудстока полях. Шумная, светящаяся, разноцветно переливающаяся, психоделическая волна
набежала на серые, каменные, холодные в надменности, респектабельного мира громады. Нахлынула, разбилась, искрясь и
пенясь, брызгами сумасшедшими, по всему миру разлетелась, молодые души будоража. И до далекой, северной, холодной и
сумеречной страны, до задавленной коммунистическим игом России, долетели пьянящие брызги, упали в снег. И было. Там, где
упали они, окрасился снег красками разноцветными, засветился, заиграл свечением нездешним, нереальным, и подтаял от жара
вдруг, и обнажились дороги дальние.
И встали, тогда, рыцари, и ремнями препоясались, и одели обувь на ноги свои,
и оставили дома теплые, и пошли, зачарованные, пошли, в безумии блаженном, Грааля искать, землю обетованную…. Оглянись
назад, оглянись. Там, в тумане, ты увидишь, ты видишь, в зыбкой флуоресцентной дымке, причудливо, прихотливо сплетаются,
переплетаются, свиваются разноцветными нитями в шнур тугой, твои игры, твои выдумки, фантомами фантазии твои в реальной
реальности. Ах, посмотри, как красиво, как страшно красиво обвился тугой, манящий шнур, в неверном тумане. Там проступают,
неясно, развалин очертания, руин, истекающих причудливо. Там веселого огня следы. Light My Fire. Ожогов пятна красные. Там
смуглые тела обнаженные переплелись в любви яростно. Или в ненависти? Любовники Герольды, живы они? Или ты прошел по ним,
жестокий Бодхисаттва? Оглянись, оглянись, посмотри назад. Но если солью негодной рассыплешься, вдруг, людям на попрание,
не виноваты мы, хи-хи… не виноваты….
Тихие, ряской и кувшинок листьями затянутые озерца, от тропы слева. Серые, неподвижные цапли застыли гармонично,
грациозно, они не слышат меня, я не мешаю им. Бреду в бреду, серых деревьев густотой.
Значит, я сам виноват, да? Дорогу на красный свет переходил, ну и сбили меня, конечно. Парадокс в том, что Ты,
придумавший правила эти, по ним же и спрашиваешь. И всякое ослушание наказуемо строго. Вплоть, до мучений вечных, дикость,
какая. Нет, я не спорю, Ты Создатель, и мудр, и в Твоей власти, но как это быть может – кого люблю, того и бью? Так,
кажется, у Тебя написано? Биет всякого сына, которого приемлет. Это шантаж, Господи, не надо меня бить.
Пригорков открытая равнинность. Густоты травянистость. Ветреная рябь на свинцовой Волги глади. Маленький, кряхтящий
буксирчик, натужно, огромную, старую, углем груженую баржу, толкающий. Серая рваная неба рана, пелена. Разворачиваюсь,
обратно брести. Так вот и Ульянов, собака, по одиночной камере вышагивал.
Но как же мне смириться, примириться, умиротвориться, договориться, как? Ты говоришь, – дай кровь и прими дух. Но
почему кровь, Боже мой, почему кровь-то?! Я не умиляюсь муками и не восторгаюсь страданиями, а надо? Но ведь Ты же Любовь,
Господи, правда? Я верю, что Ты Любовь, потому что, во что же еще то верить? Будь снисходителен к одинокому сыну Твоему,
Иисус.
Шелковичное дерево. Странно, раньше я не видел здесь шелковицы, но хорошо. Мелкие, частью белые еще ягоды, но очень
сладкие, вкусные. Изгнанника лакомство. Долго долго обрываю их в рот.
«…если отмечен, кто ни будь, нет тому покою, и спасаться он должен на особый манер».
В полях пополняю конопли запасы, складываю к иве, сушиться. Зима придет, неизбежно, как сон дурной – надо
готовиться.
В вечереющую, холодную реку, на выдохе, по грудь, заходя, сеток устанавливаю ловушки. Будет новый день и новая рыба. К
ночи разорвало облаков завесу. Треплет ветер языки огня беспорядочно. Ем свой рис, на боку возлежа. Лодки моторные, чехов
рыболовящих, стрекочут в темноте невидимо. Диск металлической луны выглядывает украдкой.
Бледная вся от бессонницы.
С ног сбитому, кто поклонится?
Мне не избежать тридцать девятой зимы, нет. Чуда не будет, его никогда не бывает, хотя еще и надеюсь. Но слабо, слабо.
Убить Бодхисаттву нах, убить собаку. Любишь кататься, люби и…, без труда не…, готовь сани ле…. О, какая же гадость, ваша
заливная рыба, милостивые государи мои!
День четвертый.
Мягко подсвечивается солнцем палатки зеленоватость, в беззвучной, мелодичной тишине, чаек тоскливые крики. Ясное и
светлое, тихое и чистое утро – н
Оглавление:
1 Тамбовские волки.
2.Солнечные фантазии
3.Римские каникулы
4.Речные фантазии
<<< На главную ponia1.narod.ru
|