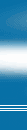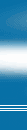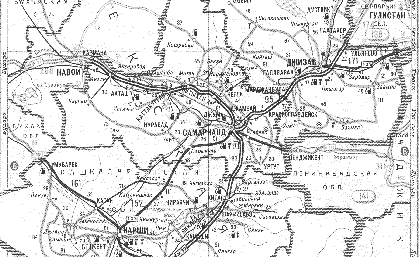
У метро Домодедовская нужно сесть на автобус 32 и двигаться в сторону того же Домодедова. Здесь мы выходим на трассу.
Я сразу понял, насколько удобнее ехать с женщиной: не успел поднять руку, нас уже подхватил грузовик.
На обочине огромный плакат, которым колхоз приветствует проезжающих: колхоз такой-то обязуется в нынешнем году сдать 100000 литров молока.
Для чего это сообщается? Мы что, сюда поедем проверять? Или известие о таком немыслимом удое должно благотворно подействовать на души всех российских путников, правдой или неправдой оказавшихся в здешних краях?
Машину без конца тормозили и проверяли - после постановления об усилении ответственности за нетрудовые доходы даже службу специальную придумали, в подмогу ГАИ и милиции. И развесили плакаты соответствующего содержания: “Водитель, возьми попутный груз!” Попутный груз - это мы с Ритой.
Первая ночевка была под Тамбовом, в четырехстах километрах от дома, недалеко от трассной автостоянки. В кромешной темноте мы ходили и выбирали себе место.
- Здесь слишком грязно, - брезгливо отвергала Рита все предложения.
Наконец я нашел что-то более-менее подходящее. Рита мрачно согласилась. Палатку мы просто расстелили, кинули сверху спальник и быстро уснули.
Утром мы обнаружили себя в центре огромной помойки. Утренние водители уже гудели моторами. 
Водители нам попадались не без прикола. Тот, что вез нас на КАМАЗе от Тамбова до Волгограда, демонстрировал чудеса образованности и памятливости на фамилии и стихи. Объяснил, что “хотел познать все понемногу”. Удивил и своим не слишком патриотичным настроением:
- Я другой такой страны не знаю! - звучало у него через фразу по разным поводам: и попутный груз, и борьба с нетрудовыми доходами, и, главное, антиалкогольная компания. Мы ему новые анекдоты: “...От безалкогольной свадьбы к непорочному зачатию”. Власть делала суетливые движения, чтобы остаться на плаву, пробивая на висельнический юмор.
Драйвер, видимо, регулярно читал газеты, но трактовал события совершенно независимо, ссылаясь на рассказы очевидцев. Разброс его интересов был изряден: то он повествовал нам об острове Шикотан с дачей японского императора и бухте с веселым названием Конец Света, то уже о “тихо удавленном” в тюрьме Щелокове с двадцатью автомобилями, о воровстве как наверху, так и среди той мелочи, с которой работает. О развале производства, лени и пофигизме. В сфере обслуживания вообще и обслуживания водителей в частности звучит постоянное “нет” - того, сего, пятого, десятого, вообще всего. И дела год от года все хуже, ему это хорошо видно.
Рассказал о печальной судьбе сына Женьки, переданной просто, без трагических тонов, как вещи обычной и чуть ли не закономерной в данном кругу: попался на выносе каких-то запчастей с родной автобазы. А где их взять еще? А они там годами лежат без дела, гниют и ржавеют.
Тюрьма - это не было чем-то из ряда вон выходящим, слишком понятное и отцу и сыну, и любому человеку их профессии.
В Волгограде у Риты случилась истерика. Жара, пыльный, до тошноты современный город, раскинутый на десятки километров вдоль Волги, какой-то апофеоз неуютности и бездушия - долбанул по усталым мозгам. Заводы, многоэтажные бетонные районы, портовые краны, улицы, по которым можно ехать часами, нигде не сворачивая, наблюдая в окне одну и ту же картину. Дурацкий монумент на горе, такой же бетонный и агрессивно-холодный, как и весь город.
Рита со слезами швырнула мне сумку и сказала, что дальше не поедет. Ей хотелось пить, есть, отдохнуть, но сколько мы ни шли, нам не попадалось ничего, где можно было бы сделать это хоть более-менее цивилизовано.
- Ты можешь таскаться сколько хочешь, - бросила она, - а я устала!
- Хорошо, - согласился я. - Сядем на поезд и вернемся в Москву!
Она долго молчала, потом взяла сумку:
- Пошли.
И мы снова поехали через весь город вдоль Волги, ища выхода из этой западни, что зовется городом-героем Волгоградом.
Навстречу нам прет странно знакомая машина. Я даже опустил руку, чтобы дать водителю моральное право проехать мимо. Но машина остановилась, открылась дверь, и отец Жени кивнул нам:
- Здрасте, давно не виделись.
- Ну, значит, судьба, - сказал я.
Под впечатлением астраханских степей вспомнил миражи в Азербайджане. Миражей здесь не было, зато были заметны старания не оскорбить степь немногими зелеными насаждениями. Посаженные и неполитые деревья засохли еще в возрасте кустов. Там, где была вода, главным образом потерянная из систем орошения, земля незаконно пучилась всей своей свежестью и силой. Иногда попадались места изумительных замесов: пастельно мягкий и ненасыщенный светло- и темно-зеленый переходит в охристые и бежевые тона, потом в разные оттенки желтого, вплоть до белесого.
Иногда встречался настоящий, как бы экспонируемый бархан, со всеми положенными извивами прически в несколько ярусов, прихотливо выветренный и голый. Водитель сообщил, что когда-то вся эта степь цвела и татары пасли тут огромные табуны. В наше время ее взялись орошать, чтоб выращивать рис что ли, и полностью засолили, так что даже трава больше здесь не растет.
Попалась могила или кенотаф водителя: крест с повешенным на него рулем и овалом фотокарточки в средокрестии. Внизу вместо плиты лежала монументальная грузовая шина. Зрелище было грустное, я даже не осмелился сообщить о нем Рите, умиравшей рядом с полузакрытыми глазами.
В кафе под Астраханью, где нас очень невкусно накормили, играло “Браво” с залихватской Ивонной Андерс - и паслась привязанная к палочке коза. И я все ждал, что сейчас запоет Гребень. Поколение рока, все более переваливающее хребет неизвестности.
Хиппизм - это форма интеллектуального бродяжничества, нерелигиозного отшельничества и невруб в социальную конкретику. И чем значительнее духовные искания, тем невруб в социальную конкретику делается полнее. Это герои О.Генри и Марка Твена, но рассуждающие о Боге и кладущие прик на войну, митинги и массовые шествия. Это бесспорное юродство, но юродство сознательное и гордое, не претендующее ни на сакральность, ни на снисхождение. 
Они собираются на кухне и могут часами говорить о сути движения, шутить и играть весь день в детские игры, они могут не читать книг, они ездят в гости и кафе без определенной цели, рассчитывая не провести время, но создать его: ведь время, потраченное в кропотливом труде - потраченное время. Суетность претит им. Суетность - схватиться за меньшее, чтобы не тянуть большее. Иллюзия занятости, позволяющая человеку не смотреть на самого себя.
Они пьют чай и не заботятся о еде, они жуют хлеб и слушают музыку, и все время находят в ней что-нибудь новое, как все время находят что-нибудь новое в каждой своей незамысловатой минуте. Личности оригинальные, сильные, переполненные эмоциями и страстями, живущие с непогрешимостью Будды, вкушающего свинину. Они срываются с места и без денег едут в Улан-Удэ, в единственный в стране дассан, где, должно быть, живут люди, похожие на них. Они любятся, пьют, стебают правительство и рассуждают о великом. Их мокрое полотенце висит в ванной, но это не раздражает, потому что они уже вешают на тебя обильные плоды своей скитальческой жизни, где нравственность корчится в любовном акте со свободой, и чтобы переварить этот невозможный синтез - нужна большая доза веселья.
Есть история про хиппаря, который вышел выбросить мусор - и исчез на два года. Недавно его видели в Одессе.
Есть история про хиппаря, который разносил почту раз в неделю, уверенный, что в газетах и журналах нет ничего, что не могло бы подождать.
Проехав чуть ли не тысячу километров за один день, что для стопа, вероятно, является рекордом, с одеревеневшими задницами и болью во всех местах мы сползли на астраханскую мостовую.
Ночевать мы решили в привокзальном садике в обществе цыган, которые были нам и прикрытием, и оправданием. Страшно было ментов, которые вроде не должны были нам позволить ночевать в публичном месте. С цыганами было спокойнее, да они галдели до утра. А лишь мы стали засыпать, раздался сдавленный вой. Мы вскочили: на наше ложе из расстеленной палатки полз на четвереньках совершенно пьяный мужик. Он тыкался нам в ноги, как слепой, - и рычал. Я спросил его, что он делает? Минут через пять мужик составил фразу, примерно означавшую, что он ищет ключи.
- А вы их здесь потеряли? - сострадательно спросила Рита.
Мужик отрицательно покрутил головой и выдавил:
- Не знаю...
Я предложил пьяному искать в другом месте: “Вон там, вон там ищи!” - указывая в сторону фонаря: там было светлее. В анекдоте пьяный хотя бы знал, что потерял не здесь. Нашему мужику был прямой резон, выбирая из всех мест, остановиться на самом светлом. И мужик неожиданно послушал меня и уполз.
Утром мы проснулись чуть свет, раньше чем нас мог бы разглядеть патруль. Табор безмятежно спал рядом. У нас не было ни адресов, ни даже сколько-нибудь определенного представления, что есть Астрахань. Но это нам и не понадобилось: едва углубившись в город мы стали предметом заботы местных “хиппи”.
Астраханская тусовка началась для нас с Гоши (он же Игорь). Он был еще едва волосатый, молоденький неофит этого дела. Не очень начитан, но симпатичный, отзывчивый, воспитанный и, как оказалось, самый культурный здесь.
Первый раз в этом городе к нам отнеслись хорошо. До этого был старик в автобусе, кричавший: вы позорите моду! В желании нас за это покарать он доходил буквально до расстрела. Родина из его инвективы эвфемистически выпала: возможно, он не желал признать в нас соотечественников.
Гоша рассказал, как им тут живется. Положение было узнаваемое: визиты участковых, арест за чтение “прав человека”, переписанных из “Курьера ЮНЕСКО”, четыре месяца без работы, креза. Еще самые первые, но страстные шаги в рок-музыке с отставанием на десять лет, но все тем же обязательным путем: Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple. Тот же сленг, тот же хайк, тот же питерский “Сайгон”, то же винтилово на Гоголях, куда он уже успел съездить в этом году.
Вообще, я еще раз понял одну главную вещь: волосатые везде одинаковы - в Москве, в Питере, в Ангарске, в Астрахани.
Это тип сознания: идеалистический, немного детский, живой, отзывчивый, весь на улицу и в то же время склонный к глубокой внутренней работе, к свободе до костра включительно. Это вкус, эстетически не приемлющий однообразия, пошлости, конформизма, жестокости и официозности. Они стихийные мыслители, но они делатели - в актах своего ежедневного протеста, просто в жизни - существовать как приятно и как хочется. Это голубоглазое противостояние, вылившееся в целую культуру. И она захватывает человека, словно малярия, и уже не отпускает годами. 
Даже удивительно, насколько хиппи, вне зависимости от места и подступов к информации, являют цельное и схожее мировоззрение. Наши новые френды прежде не были даже в Москве, два года назад они встретили каких-то московских волосатых проездом - и этого было достаточно: в Астрахани появилась своя “система”, ее местный филиал, под гостеприимный кров которого мы попали.
Они, конечно, были очень серые, многие вещи и давно культовые имена оказались для них совершенно в новинку, и они слушали нас, жадно распахнув уши. Но внутри себя, по характеру, они были точно такие же: лентяи, идеалисты и стихийные ненасильственные революционеры. Здесь их нечему было учить. Напротив, они были трогательно добры, при том, что жили в условиях довольно диких, где волосатый кажется совершенно верблюдом. И лишь старые дворовые знакомства спасали их от постоянной фейсовки.
Первым делом Гоша повел нас на флэт к Витьку, в крошечную комнатку в старом двухэтажном доме без телефона. Витек самый старый из них: отслужил в армии, женился, бросил жену, работу и даже наркотики и стал совершенно свободен. В нем был напор, энтузиазм и какой-то непробиваемый оптимизм, чего не скажешь об остальных членах тусовки. Гоша - лентяй и сибарит, ему куда приятнее целый день просидеть на парапете лестницы, недалеко от Астраханского кремля, их “стрита”, их “Пушки”, их “Гоголей”, куря, неспешно рассуждая или травя анекдоты про Ленина.
Таков же был его приятель Андрей. Таков и Вася, только в еще более законченном виде. Это был человек вообще невозможной самодостаточности, не имеющий нужды сделать одно лишнее движение, удовлетворенный любым положением, в которое его поместила судьба, поставила или положила. Загадка, однако, как мог он время от времени попадать в Москву, где мы с ним потом и встречались. Однажды мы столкнулись с ним у Шурупа в выселенной квартире на Маяковке. Обкуренный Вася ходил по комнате и надувал себя насосом. Таким он и остался: пофигистом, халявщиком и оттяжником. Заделав в бессчетных тусовках каких-то детей, пройдя через тюрьму, смерть друзей и даже детей - ничему не научился, не вынес никакого опыта, заморозил себя в беспечной юности и стал в конце концов алкоголиком. Но тогда, мы, естественно, этого не знали.
Я хорошо изучил их, ибо вся их “система” позже перебывала у нас, подолгу застревая в нашей недавно полученной комнате. 
Нам с Ритой видеть такое было странно. Это был интенсивнейший для нас год: домашний театр, писание программных текстов, подготовка уличных выставок, нескончаемые политические и эстетические дебаты с агрессивной, недавно народившейся и стремившейся себя заявить третьей волной волосатых, для которых мы были менторами и связующим звеном со Второй Системой, к которой принадлежали сами.
Именно тогда возникли и ярко блеснули Умка, Сольми, Папа-Леша, ставшие системной легендой.
Я не знал более бессмысленного занятия, чем тусоваться на Гоголях. У нас дома и так беспрерывно толклась прорва народа и приходили все новые, готовые прямо сейчас что-то сделать, а не просто покурить и ненапряженно побазарить. Но в маленьком провинциальном городе, где трудно к чему-нибудь себя приложить, такой образ жизни, как у этой “системы”, и был, может быть, единственным театром, поэзией и вялотекущей революцией.
Жертвуя ради нас своими правилами, астраханцы повели смотреть свой кремль, старый и впечатляющий, показывали город, по которому, как по Питеру, ходили пешком. Город был мил и хорошо сохранился. Казалось, что его просто забыли, и он жил себе понемногу, в стороне от грозных разрушительных программ, тихой провинциальной скучной жизнью, ничего не знал, ни во что не вмешивался, не очень даже рвался к новомодным словам и сменам курса.
Утомленных, полузажаренных, нас повезли на кораблике на астраханский пляж. Нежный мелкий песок, пучки ив, живописно разбросанные по его светлой плоскости. Вода была мелкая и теплая, что-то вроде Рижского взморья.
Наш единственный день в Астрахани заканчивается. Мы не тратили здесь всех сил - нам предстоял еще очень большой путь. Поэтому смотрели вполглаза, сберегая впечатления на будущее. Нас накормили домашней едой в добром семействе Гоши и предупредили, что все нормальные дороги в Астрахани кончаются и дальше ничего хорошего нас не ждет. К тому же жара, пустыня - тысячи километров... Будь я без Риты, я бы, может быть, и рискнул. Поэтому ночью мы сели в поезд, отправлявшийся в казахские степи, чтобы с пересадкой попасть в город Ташкент.
Включили и тут же выключили свет. Все мужики вагона один за другим отправились в паломничество в тамбур - курить. Женщины, не такие многочисленные, шли с мыльницами и полотенцами.
В нашем купе ехал старик с орденами и расстегнутой ширинкой, неухоженный и обдерганный, и две женщины, молодые бабушки:
- Ох, рано он женился, слишком рано! Поступил, сразу женился, родил ребенка. Ни работы, ни крыши над головой. Теперь будут мыкаться - пока-а еще что будет...
Они ездили в Белоруссию за продуктами. Смоленщина - голодный край, а вот в Белоруссии - гораздо лучше со снабжением, - узнал я от них важную информацию.
- А хорошая у вас квартира? - спросила одна другую.
- Хорошая, двухкомнатная. Жили раньше втроем, теперь двое остались.
У обеих из сумочек и конвертов появились фотографии. Одна женщина опять завела про проблемы сына: в институте ему поставили условие - или практика после вуза у черта на рогах, или армия. А у него жена и маленький ребенок. Ох, рано он женился...
Полная блондинка-проводница весело грубила и издевалась над всем вагоном. Досталось и нам за отказ брать белье:
- Надо спать на постелях, как всем белым людям!
Чужим пассажирам:
- Ходят тут всякие, потом носки пропадают.
Сперва не скупилась на чай, потом на извинения за отсутствие оного:
- Золотце, да я бы!..
Было в ней что-то русское и круглое во вполне эмансипировавшейся форме.
В соседнем купе постоянно кричал ребенок, казашка в который раз не закрывала дверь в сортирный тамбур, словно оставляя путь к отступлению, курсант играл в карты с мужиками, весело.
Обнаружилась нищая, совершенно дряхлая старуха с палкой и без билета. На попытку проводницы ее ссадить весь вагон встал как один, предложив проводнице заплатить за нее. Моя соседка даже давала рубль - легко, чуть ли не с испугом быть заподозренной в скупости. Едущий с нами мент стал защищать старуху жарко, но своеобразно, с милицейской прямоугольной настырностью:
- А как же вы сажаете без билета? А надо проверять! Нету времени? - не надо здесь работать! Не ссаживать надо, а работу делать, распустились все! Платить еще - сами виноваты! Пусть так едет, не обеднеете...
Старуха тем временем полулежала в молчаливой безжизненности и с полной безучастностью, одетая в демисезонное старое пальто с одной солдатской пуговицей.
В восемь утра мы сошли на маленькой пыльной станции в степи за Гурьевым, где-то рядом с городом со звучным именем Октябрьск. До нашего следующего поезда оставалось несколько часов - вроде бы достаточно, чтобы пополнить запас провизии.
По случаю раннего часа на самой станции буфет не только не работал, но даже не производил впечатления, что вообще когда-нибудь здесь имелся. Я остался ждать у кассы билетов, Рита направилась в поселок.
Выяснив, где расположен поселковый магазин, она явилась туда уже после открытия - и нашла закрытые двери.
- Почему не работает магазин? - стала допытываться Рита у местных женщин, уже собравшихся в очереди: есть-то хочется...
- Ну, значит, продавщица еще не пришла, - меланхолически ответили женщины.
- Как не пришла? - переспросила Рита. - Написано же в девять? А уже почти десять.
Они посмотрели на нее, как на ненормальную.
- Ну и что? Степанида задерживаиться, что тут такого? Придет и откроет. Чего вы волнуетесь?
- Так ведь и поезд скоро придет!
- Ничего, успеете, - спокойно ответили женщины, словно ясно видели ритину судьбу у нее на челе.
Если бы они все же ошиблись, голодать нам, судя по карте, до самого Ташкента. 
В ташкентском поезде едут сплошь восточные люди, и вовсе не разносят чая. У всех пассажиров свои железные чайники, свои пиалы и своя заварка. Они ходят к проводнику, столь же восточному, как и они сами, и заливают чайник кипятком. Выпросил у соседа немного зеленого чая и заварил его в железной кружке.
За окном застыла бесконечная серая пустыня, раскаленное марево в непрозрачном тусклом небе, не предвещающем ни одного дождя, но, может быть, предохраняющем от полной гибели. Поезд долго стоял на полустанке маленького городка Аральска. По стопнику и по названию тут где-то должно быть море. Об его присутствии напоминают полузасыпанные песком ржавые поломанные рыбачьи баркасы. Вокруг на сколько хватает глаз - ровная пустыня. Лишь чайки в небе - примета его.
Перед Ташкентом в вагон шмыгнул немой с грудой фотокарточек. Сунул мне совершенно тошнотворное порно. Увидев мою гримасу, послушно убрал порно в карман и тут же предложил православный календарь с Богоматерью на обложке. Соседкам - неизбежные зодиаки, календари, портреты героев мультсериалов. Все дешевка и убожество.
В Ташкенте было 45 градусов в тени. Это даже меня вогнало в ступор. Ничего ужаснее этой жары я ни до, ни после не испытывал. Мы двигались короткими перебежками от одной бочки с квасом до другой, в промежутках кидаясь под поливающие траву фонтанчики, - и так знакомились с достопримечательностями. 
Увы, Ташкент поразил своей совершенной современностью, словно слизанный один в один с архитектурных проектов, что во множестве выдает мой бывший колледж, и кроме занятной чайханы в центре, недавно сработанной на восточный лад, ничем не запомнился. Здесь приносили чай в прикуску или с леденцами на блюдечке и выставляли на стол чайники с железными носиками вместо отбитых.
После чайханы мы долго искали баню. Попросили работницу пустить нас в одну кабинку.
- Не положено.
- Да мы женаты, у нас в паспорте штамп есть! - сунули ей паспорта. Она внимательно посмотрела, но все равно твердила “не положено”.
- Да у нас мыло одно, и мочалка одна, и полотенце тоже одно!
- Не положено...
В конце концов в нарушение всех инструкций я пробрался к Рите. Женщина возмущенно забарабанила в дверь, но было уже поздно.
- Мне что, голому к вам выйти?
На прощание, щедро расточив на нас соль справедливого гнева, тем более сильного, что бесплодного, она спросила:
- Откуда вы такие?
- Из Москвы, - гордо ответили мы.
Женщина сокрушенно покачала головой.
- И что же у вас в Москве тоже так делают?
- В Москве у нас ванна есть, - бросила ей Рита уходя.
Днем мы с боем сели в местную электричку. Окна или вовсе отсутствовали или были распахнуты настежь. Поездка напоминала какую-то эвакуацию: салон был плотно забит плохо одетыми людьми в национальных халатах с огромными тюками. Русской речи почти не слышно. Все были возбужденны и куда-то спешили. Кажется, они находились в мистической уверенности, что электрички ходят не по расписанию, а по милости богов, словно дождь. 
Женщины в Самарканде одеты своеобразно: длинные цветастые платья, шелковые шаровары, цепочки с украшениями, иногда чадра или огромный платок вкруг головы.
- Это, наверное, здорово жарко так ходить! - посочувствовала им изнывающая от жары Рита, одетая в тоненькую футболку и мини-юбку.
Самарканд еще в значительной степени восточный город, пыльный, безводный, с глухими заборами, за которыми цветут сады и стоят белые домики с плоскими крышами, так что вся жизнь умещается в одной плоскости.
Зато местные книжные были девственно безлюдны и являли драгоценные россыпи. Купил пару томов “Махабхараты” издательства “Ылым”, Есенина и, конечно, сборник таджикской поэзии, положивших начало книжному бремени, неизбежному во всех поездках в дальние концы дорогого отечества.
 Мы долго ходили по старому городу, тратя время на мое упрямое желание все это зарисовать: как средневековый путешественник, я не знал фотоаппарата. Не лежала почему-то у меня к нему душа. Да и сложно все это: диафрагма, выдержка какая-то. Вместо этого меня долго учили рисовать, и делал я это довольно проворно. Да и когда еще выпадет случай: мавзолей и мечеть Гур-Мир, где находится могила Тимура, огромный, с голубым куполом, кристалл над низким городом, сияющий всеми своими цветастыми орнаментами. Мы долго ходили по старому городу, тратя время на мое упрямое желание все это зарисовать: как средневековый путешественник, я не знал фотоаппарата. Не лежала почему-то у меня к нему душа. Да и сложно все это: диафрагма, выдержка какая-то. Вместо этого меня долго учили рисовать, и делал я это довольно проворно. Да и когда еще выпадет случай: мавзолей и мечеть Гур-Мир, где находится могила Тимура, огромный, с голубым куполом, кристалл над низким городом, сияющий всеми своими цветастыми орнаментами.
В Гур-Мире стенд с пояснениями толковал, что странная сталактитовая ниша в стене называется “михраб” и является святая святых всякой мечети, всегда направлена в сторону Мекки, то бишь на юг.
Зарисовал ансамбль Шахи-Зинд, XIV-XV вв., по профилю: погребальный комплекс, выстроенный для приближенных и родственников Тимура. 
За это время у входа в Шахи-Зинд скопилась большая очередь, подъехал “икарус” с туристами. Плата сюда тоже не копеечная, а мы и так круто поиздержались на поезд. Поэтому перелезли через стену и попали в самое сердце мемориала. Женщина-экскурсовод рассказывает, что по мусульманскому поверью достаточно коснуться любого камня этого города мертвых, чтобы очиститься от грехов. Ее никто не слушает: вся группа смотрит на нас. Экскурсоводу даже пришлось специально повысить голос, чтобы вернуть внимание.
Но лучше всего: площадь и ансамбль Регистан, заложенный Улугбеком в XV веке. Ни одного дерева. Раскрашенные стены торчали из голой выжженной земли. Никаких сараев, случайных домиков, пристроек, полупамятников - только суть. Набросал медресе Улукбека (медресе - это училище: мусульмане очень любили учиться). Потом мечеть в медресе “Тилля-Кари”, возведенную по приказу Ялагтуша-Бахадура и завершившую ансамбль Регистан. Орнаменты, узоры из синенькой глазури на рыжеватых стенах. Любимая фигура - восьмиконечная звезда во всевозможных сочетаниях, размерах и формах. Жуть как хитро заплетены эти мозаики! Восточный художник самовыражался в орнаменте и каллиграфии (изображения, как известно, были ему запрещены).
Посетили музей Улугбека, поглядели на остатки его знаменитой “обсерватории” (где не было ни одного телескопа), на его несчастную, отделенную от тела голову и голову его страшного деда Тимура, восстановленные в мастерской Герасимова. Пояснения доказывали, что если дед Тимур был типичный монгол, то его внук имел внешность отчетливо персидскую: длинный благородный чуть изогнутый нос, высокий лоб, относительно узкие скулы. Бедняга увлекался наукой, искусством, проводил какие-то прогрессивные преобразования и, как водится, погиб в дворцовом перевороте, организованном мусульманскими мракобесами. Обсерваторию, натурально, уничтожили мракобесы.

Из Самарканда на маленьком местном автобусе доехали до турбазы “Агалык”, согласно наколке друзей. В переполненном автобусе кто-то сунул нам под ноги свой арбуз. Постепенно люди выходили, про арбуз никто не вспоминал. Ближе к конечной, когда в автобусе осталось всего несколько человек, мы уже считали его своим. Я сошел с ним подмышкой - решил обрадовать друзей. Мы еще не знали, что их на месте уже нет, и спешили мы напрасно.
Идти в горы на встречу с друзьями было уже поздно, и мы остались здесь ночевать - совершенно бесплатно.
Утром на турбазе нам дали бесплатный же завтрак - восточная щедрость напополам с восточным любопытством. Наше московское дворянство, наше неистребимое барство - наша прописка - вызывает зависть у подавляющего большинства жителей этой огромной колонии совдепа. В целях какого-то эксперимента их обделили даже в зависти: мечтать об единственном городе страны, режимном, перенаселенном, чумовом, где, по их мнению, только и существует жизнь, источаясь во все остальные концы империи. Одни алчут его оттого, что больше культуры, другие - что больше колбасы. 
На ограде местного пионерлагеря красовалось: “Верит Родина в тебя, молодая смена”. И нигде никогда я не видел обратного: чтобы что-то требовали от Родины, чтобы Родина была вынуждена оправдывать доверие. На всех лежит долг, даже на детях, но только не на Родине. Она безгрешна и свободна, как Бог!
Лагерь поднимался к своей утренней деятельности. После вступительной музыкальной части занудный голос начальника лагеря стал назначать распорядок:
- Отрядам тщательно убрать постели! - И повторил для острастки: - Тщательно!
- Не покидать территории отряда до девяти тридцати пяти. До девяти тридцати пяти! - повторил он, изображая скверное эхо.
Ему бы в казарме командовать. Впрочем, их оттуда и берут.
На заборе, отделяющем детей от мира, намазаны слова бессмертной песни, почему-то считающейся гимном идеального детства: “Пусть всегда будет мама...”, но отчего-то на этот раз в вольной интерпретации, так что за словом “мама” шел не известный конец куплета, а странная инверсия: “Будет небо и я”. Виновнику этой надписи, видимо, было лень писать, или не хватило забора, или его отвлекли иные проблемы, далекие от неба, ребенка и его мамы.
Мы шли мимо этого безнадежного забора, а за стеной уже трещала на весь лагерь дорожка заезженной пластинки, и, к моему изумлению, на простые детские души обрушилась песня Аллы Пугачевой про ангела со святыми очами и неисправимую вину. 
Последние деревья - и цивилизация кончилась. Мы брели вдоль речки Агалык вверх в горы по однообразному раскаленному плато, постепенно превращающемуся в ущелье, почти лишенному растительности. Я нес свой здоровенный арбуз, перекладывал с руки на руку - раскаиваясь и в благотворительности и в жадности. Ущелье постепенно сужается, но стоянки друзей все нет как нет. Мне кажется, мы шли часа четыре и нашли поляну у воды с кучкой деревьев, запруду и островок, сильно напоминающие описанное друзьями место. Но и здесь было пусто. Я бросил рюкзак и пошел дальше. Через час ущелье совсем сжалось и стало много круче, пошли какие-то заросли кустов и деревьев. Еще чуть-чуть - и дошел бы до горных снегов. Впрочем, я повернул назад.
За мое отсутствие Рита обнаружила несомненные подтверждения, что стоянку мы выбрали правильно: в реке она нашла перочинный нож с белкой, в кустах под камнем сетку еще живого лука и чашку с дыркой наверху.
Слава Богу, в магазине мы купили хлеб и килограмм серых макарон (риса не было, его здесь, кажется, вообще не продают), так что нам не надо переться назад. Мы пожарили лук с макаронами, сварили чай, разрезали проклятый арбуз. Мы здесь одни и еще не готовы это осознать. Как-то все это нам иначе представлялось: в большой веселой компании, когда и пустота места и отсутствие развлечений не портят кайфа.
Уже в темноте я поставил палатку и по многолетней инерции накрыл ее целлофаном. Рита издевалась:
- Что ты делаешь! Мы же в Азии!
Но мне уже лень было снимать. И ночью мы проснулись оттого, что на палатку обрушился ливень. Потом я разговаривал с местным чабаном: ливня в это время года не припомнят и аксакалы.
Рита покачала головой:
- Это все из-за тебя. Тебя надо за деньги посылать в засушливые районы... 
Я проснулся рано. Взглянул на скат палатки. Солнца еще не было. Здесь оно появлялось около семи. Было без двадцати семь. Я решил кое-что записать. Пока писал, на брезентовом верхе расцвел желтый цветок. Я бросил писать и вылетел наружу. Над одним краем ущелья висело прекрасное, но еще холодное солнце, над другим, выше, в темно-голубом небе - призрачная дымчатая луна. Горы с надолбами обнаженных камней были пастельно розовыми и охристыми. От палатки, камней, кустов и меня на версту тянулись гладкие тени, будто под лучом прожектора.

Утром мы снова знакомились с местностью, бродили по горам, голяком купались в маленьком озерце, образовавшемся из запруженной речки. Я чуть-чуть рисую. Рита произносит мертвый готский стих: dalath thаn atgangandin laistithethun assis iffar imma umions managos. “Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа”, - приятно терпкий на свежем воздухе Тянь-Шаня.
Поверху скатов нашего ущелья бродят овечьи стада под охраной чабанов. Мы не обращали на них внимания - загорали на расстеленном спальнике. Я вспомнил картины недавней пицундской жизни. Всей семьей выстроившиеся в цепочку люди, доселе смело бредущие вдоль берега с купальными принадлежностями в руках, вставали как вкопанные на положенном расстоянии, едва состояние дел открывалось для них во всей непоправимой очевидности, и быстро поворачивали назад, навсегда скрываясь за ближайшим мысом.
Были персонажи и посмелее и постраннее. Толстая матрона кричала своей дочке или внучке: “Верочка, не смотри! Верочка, закрой глазки!” - и упрямо вела ее вперед. В ее голосе не было гнева или оторопелости. Это говорилось просто и деловито, как говорят детям закрыть глаза перед летящей пылью или не смотреть на сварку: лишь берегут их здоровье, ничего более.
- Afterwards we could say - we were happy there, - произносит Рита у меня за спиной.
Мы позволяем себе и еще большую разнузданность: просто занимаемся любовью, а потом купаемся в ручье. Мы серьезно вообразили себя на необитаемом острове.
И напрасно. Пока мы плескались в озерце, к нам приблизился человек. Он что-то возмущенно кричит и машет палкой.
- Иды сюде, иды сюде! - вопит он, словно вызывает драться. 
Я натянул плавки и подошел. Это был бедный, загоревший до черноты узбек в старом драном подпоясанном халате, с длинной плетью. Спросил, что ему нужно? Он пышет гневом:
- Почему голый?! Тут нельзя голый!
- Почему нельзя?
- Нельзя! И еще голая женщина!
- Так здесь же нет никого.
- Как нет! Дети ходят с овцами, смотрят!.. Откуда вы? - наконец спрашивает он.
- Из Москвы.
- А, из Москвы... - его реакции моментально меняются. - Из Москвы... Тут тоже стояли недавно из Москвы.
- Это наши друзья. Мы собирались с ними встретиться.
- Да, они ушли несколько дней назад. Хорошие люди.
Мы познакомились, его звали Бекмурза. Он неспешно сел, мы предложили чай, он отказался, достал что-то из железной баночки и положил в рот. Нам отлично известно, что это популярное на востоке средство расхоже зовется “насвай” и имеет, вероятно, тот же эффект, что у индусов листья священного дерева бетель. Но местные темнят и на все расспросы ухмыляются.
Он начал рассказывать нам про наших приятелей. Он ходил к ним каждый день, приносил какие-то продукты. Они даже фотографировались вместе, и ребята обещали прислать ему фотографии. Вот только снялись так быстро, что забыли взять адрес.
- Ну, так давайте, я запишу, - сказал я.
- Да, да? Ой, как хорошо, как хорошо!
Теперь он наш лучший друг.
- Купайтесь, купайтесь, если кто будет спрашивать, скажите, что вы знаете Бекмурзу, он ваш друг. 
На следующее утро нас разбудили коровы, меланхолически поедавшие нашу скудную провизию. Мы с Ритой криком отогнали их. Поискали пастуха, но никого не нашли. Коровы жили совершенно самостоятельно. И так же самостоятельно себя прокармливали.
- Подоить бы их в отместку, - мстительно говорит Рита. - Как ты думаешь?
- Давай. Ты умеешь?
- Нет, конечно.
Вновь пришел Бекмурза, на этот раз со всем своим стадом. Овцы, сменившие коров, были невероятно грязны и вонючи. Клоки отросшей серой шерсти торчали и висели во все стороны. Они прыгали вокруг, блеяли и пожирали жалкую сухую траву, занозя глаз своими черными попами.
- Что ж у вас овцы такие грязные? - спросила Рита.
- Ничего, будем стричь, помоем, - смеется невозмутимый чабан. Ему с нами хорошо, какая разница, где пасти овец? Он сосет свой насвай и мерно рассуждает о жизни. Нас же это соседство сильно раздражает.
- Мы купаться пойдем, - сказал я.
- А, ну, я пойду! - спохватился он. Видеть наготу девушки выше его сил!
Вечером новая история: в палатку залезла мышь. Мне почему-то изо всех сил захотелось ее, шпионку, поймать.
- Мышь не может бежать назад, и кошка часто этим пользуется, - инструктирует меня Рита.
Не знаю, она, и не умея этого, очень ловко от меня сбежала. Я и представить себе не мог, что мышь может с места прыгнуть вверх на полметра! А она сделала это несколько раз подряд, словно кенгуру.
Через два дня я пошел в Агалык за продуктами, а также кинуть весточку на Большую землю. Это путешествие на весь день. Справа от меня журчала река, мелкая, едва-едва не исчезающая совсем среди камней. В ней ловили рыбу двое местных жителей: они быстро-быстро вычерпывали ведрами воду, пока от реки не оставалось маленькое озерцо, где и скапливалась вся рыба, которую они хватали руками или теми же ведрами.
Потом эти рыбари завалились к нам: менять рыбу на водку.
- Спасибо, рыбы нам не нужно, мы не едим, - сказала Рита. Она слегка испугалась. Она была одна среди гор, в довольно соблазнительном виде, и тут кричи не кричи, если им что-нибудь придет в голову.
- Ну, так дай водки, - мрачно рекли узбеки.
- Водки тоже нет. Мы не пьем.
Что у москвичей нет водки - это, видно, было выше их разумения. Они угрюмо смотрели на Риту, не то решали, говорит ли она правду, не то - нельзя от нее еще что-нибудь получить?
- Была б у меня водка, я бы с удовольствием отдала бы им ее задаром, только бы ушли! - еще в непрошедшем страхе рассказывала мне вечером Рита. - Никогда больше не уходи, слышишь?!
Рыбаки, наконец, плюнули и пошли назад, верно, обзывая нас плохими словами, может быть, даже усомнившись: те ли мы люди, за кого себя выдаем?)
В Агалыке я купил неизменных макарон, соли, банку каких-то консервированных овощей и хлеба. Агалыкская почта работала в “домашнем” режиме. Да и вообще мелкие официальные учреждения на Востоке работают очень вольно. Магазин и почта могут быть закрыты в любое время, а продавец или работник заниматься поблизости своими делами: готовить еду, мыть овощи в ведре или беседовать под деревом с соседями.
На принесенных мной продуктах мы прожили еще несколько дней, читали английского Керуака, загорали, купались в нашей луже. Вода в луже, как и во всей речке, близка к нулю, но к середине дня прогревается градусов до десяти-двенадцати, и теперь в нее можно броситься, проползти на брюхе пару метров и быстро прыгнуть на раскаленные камни - по принципу сауны.
И все же совершать новый круиз до магазина не было никакой охоты, тем более, что Рита наотрез отказалась оставаться одна. Мы сильно вкусили дикости, загорели, отдохнули и созрели двинуть еще куда-нибудь.
После всех скитаний по Самарканду мы попали на рынок. Это было нечто среднее между восточным базаром и обычным московским рынком, только больше фруктов и меньше порядку. Тьма торгующих, спокойных мужчин в халатах и тюбетейках - сидели у лотков и машин и зазывали с восточной экспрессивностью и хватали за руки. Килограмм помидоров - 12 копеек, огурцы - 14, картошка - 16, яблоки - 45. Ничего этого нам было не нужно. Купили дыню на рубль и съели. Вместо хлеба, который неожиданно был дорог.
На самаркандской почте я запаковал посылку с книгами на свой московский адрес: получился немаленький ящик килограмм на пять. Но уже на следующей улице еще один, роковой и искомый “китоблар” (книжный), и скоро сумка опять распухла от книг, как у увлеченного охотника, потерявшего дорогу и забравшегося за дичью на край света. 
На дороге на автостанцию и на ней самой не то стояло, не то жило убийственное количество людей. Садились в автобус как в Гражданскую войну - друг у друга по головам. Потом сидели в переполненном жарком автобусе, ждали нескорого отправления. Неподвижная очередь к пустой кассе. И жара. Попили воды из надувшего нас автомата. Заняли очередь, посмотрели - и пошли на трассу.
Триста километров ехали весь день: каждый драйвер вез до своего колхоза. Поэтому столько же ехали, сколько сидели на обочине. И нигде не удалось поесть. Зато под Навои на бензоколонке видели бассейн с чистой прозрачной водой, в котором плескались дети. В Узбекистане - парадокс - много воды, и они ее не жалеют.
В который раз напились, опять не надолго.
У водителей не принято курить. Тем более женщинам. Шоферы сосут свой “насвай”, который хранят в разнообразных железных коробочках на груди.
Местные шоферы возят только за деньги. Восточные люди дружественны, но и коварны, они не прочь на тебе нажиться. У нас вышло двенадцать рублей - за 270 километров. Дорога была дрянная, все время в ремонте, и только под Бухарой дуют на всю. Пейзаж был зелен, вдали белели горы, много значков с ножом и вилкой, но как-то все не случалось попасть к ним. Каждый колхоз считал обязательным воздать славу КПСС, иметь памятник героям войны и эмблемы прочей советской ахинеи. Все аляповато и избито. Чем дальше от войны, тем выше памятники героям, чем хуже урожаи хлопка, тем монументальнее лозунги и плакаты. Вот возможный сценарий: колхоз имени Маркса вызывает на соцсоревнование колхоз имени Энгельса, благо и тот и другой находятся на одной трассе и сравнительно недалеко друг от друга.
Жара, машины грохочут мимо, Рита злится на то, что своими драными джинсами я слишком бросаюсь в глаза: местное население то и дело подходит и спрашивает, люди забывают, куда шли, смеются и что-то советуют, совершенно бессмысленное, вроде того, где можно сесть на самолет, чтобы попасть в Москву. Отношение, как к диковинным зверям, за созерцание которых платят парой сердечных, ни к чему не обязывающих советов. Наелся вдоволь.
И как всюду на Востоке удивительное географическое равнодушие: никто ничего не знал, никто не ведал, куда ведет эта дорога и где искать иную.
В маленьком кишлаке, где только что нас ссадили, подошел к женщине в шароварах.
- Это дорога на Бухару?
Она долго смотрела на меня и молчала. Я повторил вопрос.
- Откуда вы? - наконец заговорила она.
- Из Москвы. Так это дорога на Бухару?
- Куда?
- На Бухару?
 Она смотрела на меня своими темными неподвижными глазами с таким изумлением, будто слышала это слово впервые. Она смотрела на меня своими темными неподвижными глазами с таким изумлением, будто слышала это слово впервые.
- Не знаю.
Собственно, через этот кишлак проходила всего одна дорога. Женщина прожила на ней всю жизнь, так и не выяснив, куда она ведет! Может, это и называется мудростью?
Полно открытых парикмахерских, в каждом поселке универмаг, зато чайханы попадаются не слишком часто, поэтому нам все не получается в них зайти.
Последним драйвером был частник на “жигулях”. Такой здесь кажется богачом. Он вез нас не меньше часа мимо бесконечных хлопковых полей, залитых водой и сверкающих на заходящем солнце расческой мокрых борозд. Вместе с полями участились и плакаты с редкой метафорой о “белом золоте”.
В степи, под Баку ли, под Астраханью, почти в пустыне, поражает обилие столбов электропередачи, пестреющих от горизонта до горизонта, словно скелет выгоревшего леса.
Лес действительно сошел, исчез и рельеф, и все, что было заботливо укрыто под их сенью - каркас и нервы цивилизации - вылезло наружу, явилось подозрительно преувеличенным, будто и правда то были области особой электронапряженности. Может, здесь где-то прячется гигантская ГРЭС, откуда ток идет веером на всю вселенную?
Наш драйвер достал вечный “насвай” из вазелиновой баночки и положил под язык.
- Носодер! - подмигивает он эвфемистически. - Хорошо заменяет курение. - И смеется.
- Еще бы! - усмехается Рита.
Впрочем, любитель “носодера” вовсе не собирался отпускать нас бесплатно. Даже семью рублями он остался весьма недоволен.
В Бухару мы попали уже в сумерках. Я огляделся, ища место, где можно поставить палатку. Рита захныкала: хочу в нормальные условия, хочу в душ!..
Рядом светилась огнями высотка, на фасаде английскими буквами набрано “Hotel”. Я молча взял рюкзак и двинул в ее сторону. Рита схватила за руку:
- Ты что, куда? Нас не пустят!
Гостиница оказалась “Интурист”. При ней на улице работал буфет с напитком и мороженым (и очередью), из гостиницы доносилась музыка. В вестибюле диковинно глядела на нас мягкая мебель.
Я нагло подошел к стойке администратора и спросил номер. Администратор долго не отвечала и, лишь после моей третьей попытки обратить на себя внимание, задала вопрос:
- А паспорта у вас в порядке?
Так за четыре сорок мы оказались на ночь в буржуйских условиях. Кажется, впервые в жизни мне удалось вписаться в совковую гостиницу, к тому же сразу на правах “интуриста”. 
Впрочем, громко в гостинице было только название. Номер был жалок и обшарпан, хотя и с балконом. Конечно, никаких вентиляторов или кондиционеров.
По пути в номер объяснились с дежурной по этажу, с которой ехали в одном лифте. Она попросила не пользоваться электронагревательными приборами. Было бы чем! За нашу покорность она обещала снабдить нас чайником и кипятком.
Наши удобства - это ванна, две кровати, тумбочка, стул, кресло, графин с противной водой, из которого я сразу выпиваю стакан, и огни ночного города, плоские и двухцветные: белый и желтый неон.
Ресторан работает до одиннадцати. Спустившись - увидели закрытую на цепочку дверь. Через некоторое время дверь открылась, мы прошмыгнули внутрь и произвели сенсацию, некоторые посетители даже зааплодировали.
Сели за столик. В вазе приветливо лежали яблоки и виноград. Но кроме них есть нам нечего - в меню одни цыплята табака. Попытались объяснить, что нам надо, молоденькому узбеку-официанту. Слово “вегетарианство” он слышал впервые, но согласился проводить прямо к поварам. Вегетарианство и им было неведомо, и они очень удивились, что этим страшным словом обозначаются всего лишь рис и овощи (огурцы с помидорами, которые у них, конечно, были).
На неизбежные расспросы на всякий случай представился художником. Это очень развеселило поваров. Они предложили мне нарисовать своего коллегу, якута Мишу, каким-то образом попавшего в бухарский ресторан. Вот что значит жить в империи!
Защищая реноме, нарисовал усатого Мишу на клочке замасленной бумаги шариковой ручкой одного из поваров. Он строил забавные рожи, пытаясь быть серьезным. Видно, что его рисовали впервые в жизни. Повара продолжали страшно веселиться, махали половниками и подкалывали Мишу, отчего он совсем терял требуемую неподвижность. За это представление нам вывалили неимоверную гору риса, но деньги все же взяли, видимо, случайно, потому что, в общем, ребята попались нормальные. Они даже напрашивались в гости, с коньяком и фруктами, и, получив отказ, пригласили снова приходить завтра.
Увы, у их риса, видимо, на жиру, оказался фиговый вкус, вызвавший к тому же дикую жажду. Мы просто не в силах были его доесть.
Поднялись наверх и попросили обещанного кипятку. Кипяток поспел через полчаса, но чайника нам не дали: дежурная все раздала.
Заварил в кружке дерьмовый чай грузинского производства, загрыз его дерьмовой самаркандской халвой, придающей ему сладость - и испытал несказанное гурманское удовольствие, так что даже пошел за второй чашкой.
Сделать это мне помешал сломавшийся в двери замок. Его удалось открыть только снаружи через несколько минут с помощью дежурной.
- Каждый день новые хозяева! - оправдывает она конструкцию замка.
Хозяева и правда странные: на потолке длинные полосы от пальцев каких-то прыгающих постояльцев. Не знаю, на кого списать облупленную стену и перегоревшую неоновую трубку. Горячая вода периодически кончалась, раковина засорена, железные краны падали на кафель со страшным грохотом, и туалетную бумагу сперли, наверное, те же постояльцы (может быть, даже иностранные).
Я влез в ванну после Риты, и горячая вода кончилась - прежде, чем я успел себя намочить. Утром она текла такой тонкой струйкой, что вымыться опять не было никакой возможности.
Ночью невыносимо громко лаяли собаки, словно в глухом кишлаке, выла сирена, кто-то разговаривал. Под утро включили какую-то монотонную машину. Все это прекрасно доносилось через открытую балконную дверь.
Утром Рита проснулась от сильной боли. На распухшей руке были видны бордовые следы укуса. Решили, что это был скорпион. Надо было забраться на седьмой этаж, чтобы тебя подстерег скорпион. В палатке такого не случалось ни разу.
Как всюду на Востоке, как всюду в совдепии - Бухара - типичный заштатный, стандартный советский город, в современных блоках, серый, прямоугольный, в пять этажей с плоскими крышами, где только зелень что-то подправляет. Лишь кое-где в него вкраплены сооружения и ансамбли, представляющие исторический интерес, иногда исключительной ценности!
Нарисовал мечеть Калян, XVI век, главную мечеть Бухары, и ее фантастический циклопический минарет XII-XX века (словно Кельнский собор - его строили всю жизнь).
Посмотрели крепость и дворец местного Бухарского эмира, в которой он сидел еще совсем недавно. Это как-то дико сочеталось с новыми панельными домами. Хуже бы смотрелся лишь луноход на площади перед дворцом.
И все же от прогресса никуда не деться. Под аркадой старого торгового двора, завешенного восточными коврами, в самом сердце наконец-то достигнутого нами Востока - мы вдруг услышали Битлз...
На железнодорожном вокзале бурлил обычный вялотекущий кошмар из-за билетов, сопутствующий мне в любом путешествии, напомнивший мне и Казань, и Барнаул. Милиция влезла в очередь, разнимая дерущихся, отстаивающих и сопротивляющихся праву на внеочередность. Внеочередность апеллировала к ветеранской книжке и смело нападала на человека в форме.
Восточные люди не знают понятия очередь. “Все первые”, - комментирует местная белая женщина на автобусной остановке сквозь мелькание локтей и гвалт свалки.
- Вы приехали отдыхать, а я спешу по делам. Мне в детсад нужно! - был ответ, объясняющий необходимость оттереть меня плечом от дверей долгожданного автобуса.
Ну, что ж, еще чуть-чуть отдохнем на остановке.
От нечего делать следили за битвой на стоянке такси, где машина с шашечками на глазах превращалась в общий вагон, в котором ехали аж в восьмером, с детьми, причем в нарушение всех правил три человека сидели впереди. Но и такая чрезвычайная езда есть счастье самых наглых и быстрых. Машина отъезжала с открытыми дверьми, с торчащими из них ногами и руками - пытаясь уйти от новых седоков, впрыгивающих в нее на ходу. 
Нет, здесь не было вкуса жизни. Молчу про азиатов, но местные русские... Они терпели южную жару, как в другом случае терпели бы стужу. Никто не наслаждался, никто не нашел и не использовал эту жару и голубое небо в радость.
Поезд поутру напомнил движущийся склеп людей. Уже давно солнце, давно всюду жизнь, но настырный разогнавшийся поезд несет вдаль бесчувственные тела темных узбеков, сверкающих голыми пятками, в оцепеневших, жалких, исполненных покорности позах.
Городские, более живые, утомляли своим любопытством. Им все охота было знать, откуда добралась в их медвежий угол такая диковина, как я, кто оказал им честь посетить их захолустье, или кого захолустье одаривает честью принимать у себя? Они напоминали детей, и так же по-детски несерьезно относились к своей жизни и своей земле. Они ее плохо знали и, видимо, мало ею интересовались, принимая в “чистом” виде, как есть, как наследство от предков, хотя и с голословной любовью.
- Из самой Москвы? - то и дело переспрашивали они. Очень важно, чтобы из самой, а не, скажем, из пригорода или откуда-нибудь еще. Это значительно хуже: некоторые из них сами там служили в армии. Но если из самой Москвы, тогда уже все можно: иметь волосы мужику, ходить в мини-юбке и без бюстгальтера девушке. Можно быть нетаким, можно быть самим собой. Тебя все равно будут уважать - ты же из самой Москвы!
Русские в поезде, занесенные в эти края, говорили об ужасном национализме и скуке. В Бухаре один клуб, три более менее больших кинотеатра и вот только что открылась первая танцплощадка. В Кагане, маленьком привокзальном аппендиксе Бухары - не то. Его издавна облюбовали европейские русские, селясь вокруг ставки русского правителя Средней Азии, в то время как в Бухаре, в 13 километрах, жил и правил свой Бухарский Эмир.
Театр - местный, национальный, на узбекском языке. И лишь иногда залетает что-нибудь вроде Хабаровского - и тому рады. Жаловались на жару, жили при кондиционерах, лучшие из которых - мокрые простыни, которыми накрываются на ночь. Некуда выехать отдохнуть, окромя озера в сорока километрах. Зато почти весь год жрут овощи и фрукты.
Бухарской молодежи некуда пойти, поэтому они организуют сборища и залазят в чужие пустующие квартиры и подвалы, и занимаются в них тем, от чего у пятнадцатилетних узбечек родятся дети. При этом в детдома и приюты очередь, ибо традиция иметь много детей, особенно мальчиков, не иссякла, а сил растить уже нет. Вот недавно был случай: узбечка сожгла себя, - хладнокровно грузит нас соседка.
Говорят про парадоксальное здоровье и выносливость местных детей. Даже зимой можно видеть их голыми, босиком и лишь в шапках на головах бегающих по улице.
Может быть, холодом детей и не замучишь, но вот поездом - запросто. Смотреть на страдание детей в поездах невыносимо. Героическое безумие или необходимость - везти в этакую даль по дикой жаре малолетних детей, кричащих, плачущих, болеющих, ползающих и на двое суток теряющих контроль. Уставшие родители пытались его поддержать шлепками, подзатыльниками, страшными окриками и ругательствами: “заколебал!”, “свинья!”, “сволочь!” и даже хуже - за оброненное яйцо - падающими, как Божий гром, на жидкошеие стриженые головы скованных оконным переплетом и отеческой, все более ожесточающейся, заботой детей.
Параллельно проводники стремились превратить плацкартный вагон в общий, беспрерывно подсаживая на каждой станции попутчиков, ехавших на малые расстояния и оседавших в нашем купе. Проводник как бы оказывал людям помощь, но имея за это мзду с одной стороны, и за наш счет - с другой.
В тамбуре вагона “Бухара-Волгоград” разговоры все о тех же “нетрудовых доходах”. Всем интересно, как они будут отличать доходы трудовые от нетрудовых?
- Если у меня в заборе дыра и доска валяется, что ж мне не поднять и не заткнуть? - спрашивал высохший мужик средних лет.
- Задом своим заткни! - засмеялся его приятель.
- И если мне мать корму для скотины привезла, что ж она - воровка? - продолжал вопрошать он кого-то. - У соседа украл - руку сечь надо, а у государства... - он махнул рукой. - Если бы что было, и было бы на что, кто б воровать стал...
Они вспомнили конокрадов и порядки прошлого. Третий, городской, здесь же покуривающий, приветствовал постановление и радостно грозил им карами. Двое деревенских огрызались и клялись, что все останется по-прежнему.
После Азии появление неподвижных гладей воды производит впечатление фантастическое и вызывает прямо физиологическое вожделение. За Царицыном, где мы снова вышли на трассу - уже Россия - вновь и вновь озера, речушки, лужицы. И вдруг, как стена, налетают леса с заросшими оврагами, болотами и тенью, тенью...
А потом, как положено, дождь, солнце, опять дождь, лужи, вечер, скошенные поля и стрекот кузнечиков.
В деревнях на обочинах старухи продают ведрами яблоки и сливы, но нам нельзя останавливаться, нам нельзя оглянуться, как Орфею, а там, где мы снова стоим на земле, яблок нету, нету добродушных старух, а лишь лес, поля, тучи. Они сгущаются, опять начинает капать, и мы обсуждаем, куда нам идти и есть ли шанс в оставшиеся часы куда-нибудь доехать?
Мы стояли на объездной у Тамбова. До Москвы еще четыреста. И тут нас подобрал какой-то сумасшедший на “жигулях”, который хочет еще сегодня попасть в Каширу. У него совершенно неведомая мне отечественная эстрада, достигшая апогея маразма за те последние несколько лет, что мне не доводилось слушать этот род музыки, сделавшая огромный шаг к обессмысливанию и опошлению слов и звуков, помноженный на полную бездарность певцов и музыкантов.
Это своего рода совершенство слушали мы во всех машинах, что говорит о каких-то особых путях приобретения музыкальной продукции простыми людьми, абсолютно неизвестных нам. И она гремела, гундела, застревая в мозгах, ужасая и веселя - и выплевывала, треща и хрипя, перл за перлом, раз за разом превосходя последний предел идиотизма. Затянись путешествие дольше, я бы попросил водителя высадить нас в любом поле, с перспективой в нем же и ночевать. Честное слово, я не испытывал никакой благодарности за эту любезность - довезти нас до Каширы. Ему следовало бы нам доплатить за перенесение столь исключительной пытки.
В Кашире мы стали гадать: сесть ли в еще ходящую электричку или стопить дальше? Машинально поднял руку - и опять удача. КАМАЗ, а в нем водитель-хохол, веселый и грубый, с приятелем. Они катили нас до двух ночи. Уже при въезде в Москву машину стопанули у ГАИ. Водила ушел объясняться и отсутствовал не меньше часа. Мы из солидарности ждали и хорошо замерзли, продуваемые сквозным московским ветром.
Вернулся наш веселый усатый водитель - сильно не веселый и с бранью на устах. Дал полису четвертной, чтобы тот отстал и отдал права: наш хохол перевозил в кузове чужую машину без документов. Зато и довез почти до дома, как такси - никогда еще такого не было!
И уже потом я сообразил, что за все путешествие ни разу не был остановлен полисом, что уже примечательно и почти необъяснимо, словно в июне на Кавказе я избыл всю карму на месяцы вперед.
Но эта мысль почти не прозвучала на поверхности сознания. Мы сразу легли, страшно усталые. Как приятна и странна эта белая постель, этот сугроб покоя, стены и крыша, крепко сошедшиеся над тобой - после почти месяца голого неба или эфемерной ограды палатки.
Зачем мы путешествуем, зачем мучаем себя?
Камню, натурально, все равно, на чем лежать. Его существование ничем не связано с окружающим. Живое же накрепко повязано со всем миром. Оно должно выяснить для себя границы реальности и понять, как далеко простирается мир, известный лишь по слухам.
Всякое путешествие - это имитация побега из тюрьмы. Отрезанные от остального мира, мы ищем услады в отыскании незагаженных заповедников по углам собственной родины. Всякое путешествие оптимистично, потому что свидетельствует о реальности и разнообразии вариантов жизни. Путешествие - это хорошо продуманная работа, где нет суеты, нет рутины, нет однообразия, нет старых болевых точек, бередящих контуженую душу.
Иногда мне кажется, что я путешествую, сбиваю ноги, голодаю и таскаю железный рюкзак за спиной лишь для того, чтобы на весь остальной год завоевать себе право валяться на диване, читать, трепаться и гонять чаи с приятелями, быстро, с соблюдением всех военных предосторожностей, преодолевая открытые пространства московских улиц. Не будь этого лета и этого рюкзака за спиной, отчаяние однажды убило бы нас. Но мы находим дорогу и бежим, а в бегущих труднее попасть.
далее >>>
<<< На главную ponia1.narod.ru
|